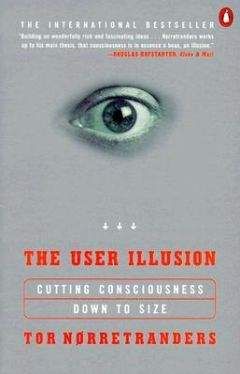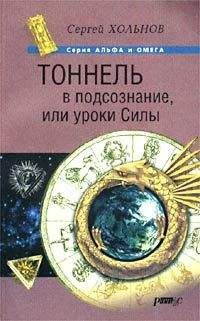Борис Ширяев - Неугасимая лампада
Новая «служба» повисла тяжким камнем на совести Шенберга. Избавиться от нее он не мог и пошел на компромисс, уведомив японца о произошедшем, а потом рассказал об этом кому-то из своих русских друзей.
Результат этой наивности не заставил себя ждать: высшая мера (расстрел) с заменой десятью годами концлагеря!
Тайфуны Индийского океана сменились колючим соловецким норд-остом; банановые заросли джунглей – темными елями соловецкой дебри. Бродя в их сумрачной тишине, бедный Шенберг ронял слезы на письма сохранявшей еще верность ему парижской невесты, которые все же доходили. Но парижанка никак не могла понять сущности перемены в жизни своего жениха и, воображая, что он командует ротой какого-то советского пограничного полка, жертвенно предлагала ему соединиться даже там, во льдах ужасного русского севера…
Жившему еще старыми традициями революционного подполья Когану хотелось сделать из «Новых Соловков» массовую газету соловецкой общественности, конечно, направленную по советскому руслу; то, что на материке было организовано в форме пресловутого рабкорско-селькорского движения. Это было, конечно, невозможно. В газете сотрудничал лишь узкий кружок бывших профессионалов и научных работников. «Массы» откликались лишь со стороны своей худшей, наиболее аморальной части. Большинство поступавших со стороны писем и заметок были густо, до отвращения насыщены тем подхалимством, тою добровольно-принудительной ложью, которая теперь стала квинтэссенцией всей советской прессы. Повествовали о своем перерождении, перевоспитании и даже восхваляли прелести каторжного режима – «вкусный рыбный суп» и «веселую, здоровую работу»…
На Соловках эта подлость имела некоторое оправдание: наивные авторы надеялись на сокращение срока, что для многих было спасением жизни, но ее фальшь была слишком очевидной и бесстыдной.
Подобные заметки и письма неизменно летели в корзину. В возможность «перековки» не верил никто даже в среде чекистского начальства. О ней и не говорили. В те годы причудливого сплетения уходившей в прошлое России с вторгавшейся в сознание советчиной еще жили остатки представлений о совести, о стыде, о личной честности даже в среде чекистов.
Нач. адм. части Васьков, передавая Петряеву одну из таких заметок, направленную через адм. часть с расчетом на прочтение ее им, сказал:
– Вот, возьми. Тут какая-то сволочь тебе врет…
Но газету читали и даже покупали. Из тиража в 1000 экз. раскупалось и расходилось по подписке на дальние командировки около 100–120. Цена была 5 копеек в счет заборной книжки (на руки присланные с воли деньги не выдавались). Остальное шло на материк, и там большинство подписчиков составляли родственники заключенных, желавшие узнать хоть по газете о жизни своих близких. Немного, конечно, они узнавали.
На Соловках же читали, прежде всего, очень краткую информацию о жизни в СССР и столь же краткий обзор международного положения. Это понятно. Никаких других газет не допускалось. Читали последнюю страницу, где была официальная часть: некоторые постановления коллегии ОГПУ и управления лагерей. Читали театральные рецензии и добродушные, мягкие фельетоны Литвина на местные темы.
Во много раз ценнее и интереснее газеты был ежемесячный журнал «Соловецкие острова». Он содержал 250–300 страниц убористого шрифта и мог быть смело названным самым свободным из русских журналов, выходивших в то время в СССР. Теперь мне ясны причины допущения этой свободы. Он был безопасен для большевиков. Его тираж в 500 экз. был весь в распоряжении ОГПУ. Пересылка журнала с острова на материк допускалась лишь по особым разрешениям, в то время как газету можно было посылать свободно.
Но ОГПУ он приносил несомненную пользу. Во-первых, он осведомлял его (помимо воли и намерений авторов) о настроениях некоторых кругов русской, преимущественно московской, интеллигенции; во-вторых, был рекламным козырем в руках того же учреждения, которым оно оперировало, как доказательством гуманности соловецкого режима перед иностранцами, а главное, в высших слоях своей же партии, где в то время была еще сильна оппозиция старых большевиков (Рязанов, Цюрупа, Красин, Томский и др.), относившихся отрицательно и к орудию Ленина – Дзержинскому, и к истреблению им русской интеллигенции.
Но тогда мы не знали этого и работали в журнале, упоенные возможностью хотя бы частичного проявления свободы мысли.
Журнал выпускался солидно, даже щегольски, на хорошей бумаге, в строгой серой обложке, с заголовком по эскизу талантливого Н. Качалина. Он не только не имел провинциального вида, но внешне напоминал лучшие из старых изданий этого типа. Вышло его семь или восемь номеров.
По содержанию он распадался на две части: художественную литературу и научно-краеведческую. Вторая была много обширнее первой.
Художественная проза была бедновата. Шли рассказы Литвина, Глубоковского, мои… Стихов было больше. Евреинов, Бернер, Русаков, Емельянов, Акарский давали очень неплохую лирику, правдиво и искренно отражавшую соловецкие настроения. В стихах можно было сказать больше и неуловимо для цензуры, все же выразить свои чувства. Соловецкие поэты это делали. На смерть Есенина «Соловецкие острова» отозвались целым циклом (около десяти) стихотворений различных авторов. В них звучала нескрываемая скорбь о безвременной кончине поэта и упрек его гонителям.
Не сберегли кудрявого Сережу,
Последнего цветка на скошенном лугу…
На материке сделать этого не осмелился ни один журнал. Там поэты равнялись по хамской, циничной эпитафии Есенину, данной Маяковским.
Интереснее был отдел воспоминаний. Мне запомнились мемуары генерала Галкина, последнего русского резидента при последнем хане Хивинском. Они проливали яркий свет на жизнь этой малоизвестной окраины России, этого нелепого пережитка азиатских деспотий… Многие вспоминали войну 1914–17 годов, и эти воспоминания, равно как и мемуары ген. Галкина, могли бы смело идти в любом из современных эмигрантских изданий.
Прекрасные иллюстрации, главным образом зарисовки старых Соловков, давал художник Браз, получивший срок за протест против расхищения сокровищ Эрмитажа, в котором он заведовал одним из отделов.
Вторая часть журнала – научно-краеведческая – заинтересовывала не только специалистов. Материалы по биологии, климатологии, океанографии и пр., конечно, мало кого, кроме них, интересовали, зато все, касавшееся истории Соловков, находило читателя. Такового было немало. Сотрудники музея давали его в изобилии. Картины долгой и насыщенной творчеством жизни таинственного монастыря вставали одна за другой: новогородские монахи-ушкуйники, воинственные старообрядцы, выдерживавшие осаду стрельцов воеводы Мещеринова, ссыльные запорожские атаманы и даже некоторые декабристы, – все они прошли на страницах журнала, на фоне огромной культурной и экономической работы, проводившейся четыреста лет монастырем, на пепелище которого были брошены последние могикане, мелкие осколки разбитой, поруганной русской культуры. Пустырь разоренного монастыря, угрюмая тишина северной дебри были ее последним приютом на родине, казалось нам тогда…