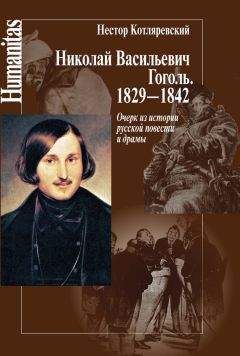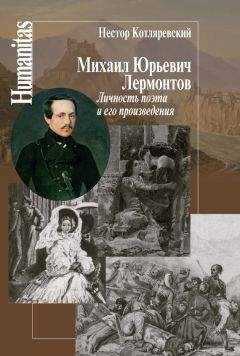Нестор Котляревский - Декабристы
Бестужев страшно обрадовался, когда вдруг мелькнула надежда, что все их «дело» будет года на два отложено.
«26 числа, – показывал он, – т. е. накануне получения известия о кончине Государя, приехал ко мне ввечеру Оболенский и сказал, что слух есть, что Государь Император опасно болен. Так потолковавши с ним и с Рылеевым и не совсем этому доверяя, мы ничего не знали до 1 ч. утра. Пришел Якубович с подтверждением того же, но мы никак не ожидали, чтобы болезнь так скоро сразила Императора. Якубович вышел и через пять минут вбежал опять, говоря: «Государь умер. Во дворце присягают Константину Павловичу – впрочем, еще это неверно; говорят, Николаю Павловичу по завещанию следует», – и выбежал. Это поразило нас, как громом, я надел мундир и встретился в дверях с братом Николаем: «Что уехать? Я поеду узнать в какой-нибудь полк, кому присягают». Далее, право, не знаю. Я и поехал в Измайловский, спрашиваю. Один говорит Константину, другой – Николаю, третий – Елисавете. Я поехал к е.в. герцогу, но уже встретил его едущего на дороге у дворца, куда я вошел и присягнул в глазах Его Величества Государя Николая Павловича. Воротясь домой, я нашел Рылеева, который сказал, что это доказывает, как мы ошибались, думая, что солдаты забыли Константина Павловича и что теперь должно ждать. Так мы и успокоились. Я поехал к герцогу и напрашивался ехать курьером к Е. В. Константину Павловичу (это можно узнать от полковника Варенцова), но послали другого. Рылеев очень заболел – и тут-то стали к нему стекаться лица, которых прежде я никогда не видывал, как-то: гвард. экипажа лейт. Арбузов, Сутгов (л. гр.), Репин и другие, и кн. Трубецкой стал ходить чаще. После разных толков решили, чтобы всякое дело отложить по крайней мере на 2 года, а там что покажут обстоятельства. Надежды мои ожили. Я с малолетства любил Великого князя Константина Павловича. Служил в его полку и надеялся у него выйти, что называется, в люди. Я недурно езжу верхом; хотел также поднести ему книжку о верховой езде, которой у меня вчерне написано было с три четверти… одним словом, я надеялся при нем выбиться на путь, который труден бы мне был без знатной породы и богатства при другом государе. Все стихло, как вдруг стали доноситься слухи, что он отказывается: что Польша с Литвой и Подолией отойдет от России, дабы не обделить экс-императора… тогда, признаюсь, закипела во мне кровь, и неуместный патриотизм возмутил рассудок»…
Легко может быть, что этот патриотизм, действительно, возбудил его энергию, которая очень слабо откликалась на чисто политические споры.
IV
В этих политических спорах никакой определенной и убежденной мысли Бестужев не обнаружил. Он был конституционалист и не одобрял «южных инстигаций и преступных намерений ввести в России республику», а между тем, вторя другим, соглашался «огласить на Руси республику».[160]
В щекотливом вопросе об устранении царствующей фамилии он также обнаружил большую неустойчивость взглядов.
Когда на одном собрании при нем стали говорить о грабеже и кровопролитии, он сказал: «Можно и во дворец забраться» (показание кн. Трубецкого); когда Рылеев и Оболенский упоминали о погублении всей императорской фамилии, он пристал к сему мнению, но утверждал, что пристал притворно и настаивал вместе с Якубовичем, что на это нужно не менее 10-ти убийц, в надежде, что нельзя будет найти такого числа отчаянных извергов и тем устранится удар от главы священной». «Я был крикун, а не злодей, – писал он в своих показаниях, – хотя предлагал себя для совершения ненавистного дела, ибо знал, что меня Рылеев не употребит»; Каховский признал, что Александр Бестужев наедине уговаривал его не исполнять поручения, данного ему Рылеевым 13 декабря (поручение заключалось в убийстве императора); на одном собрании Александр Бестужев и Каховский показывали себя пламенными террористами, готовыми на ужаснейшие злодейства; Бестужев признался, что сказал: «Переступаю за Рубикон; а руби-кон, значит руби все, что попало»; однако же, клялся, что сие было лишь бравадой, пустой игрой слов; когда покушения на жизнь императора Николая Павловича требовали как необходимости князь Оболенский, Александр Бестужев и князь Трубецкой, их диктатор, когда некоторые члены советовали удовольствоваться арестованием императора и всей августейшей семьи и когда Рылеев кончил спор словами: «Обстоятельства покажут, что делать должно» и просил достать карту Петербурга и план Зимнего Дворца – Бестужев говорил со смехом: «Царская фамилия не иголка, не спрячется, когда дело дойдет до ареста».
Все эти бравурные остроты и резкие выходки указывают на совсем несерьезное отношение к делу.
Тем не менее, в самый день 14 декабря Бестужев проявил редкую расторопность и стойкость. У современников имя его осталось в памяти. Греч говорил, что он был главным действующим лицом на площади.[161] «Александр Александрович Бестужев (сумасбродный критик, наглец в обществе, писатель не без дарования, но гоняющийся за умом, тогда как ум никогда почти не давал ему поймать себя), – писал другой современник,[162] – выдал себя за адъютанта великого князя Константина Павловича, клялся солдатам, что цесаревич схвачен на дороге, что Михаил Павлович в оковах, изранил частного пристава Александрова, исколол квартального надзирателя и велел провозглашать «Да здравствует конституция!».
«Мятежники были в ужасном исступлении, – рассказывал и еще один современник. – Адъютант герцога Виртембергского Бестужев бегал между ними с белой повязкой на руке, вооруженный кинжалом и пистолетом».[163]
На самом деле поведение Бестужева на площади было хотя решительное, но далеко не такое кровожадное и театральное.
Любопытно, что за три дня до 14 декабря (11-го) он писал своей матери письмо в деревню, в котором говорил ей очень спокойно о том, как Петербург принял весть о смерти Александра I. Он извещал ее, что царствовать надлежит Николаю Павловичу, что в городе как будто ничего не бывало. «Николай Павлович распоряжается всем и не показывает отчаяния, – писал он. – Все приняли это хладнокровно; полки присягают не зная кому, но все обходится тихо».[164]
Хотел ли Бестужев успокоить свою мать (но тогда зачем было вообще писать об этом) или он сам за три дня думал, что все обойдется мирно?
V
14 декабря утром, если верить Бестужеву, он да и все его товарищи шли на площадь, «уверенные, что они успеют или умрут, и потому ни малейших сговоров на случай неудачи не сделали».
Направился Бестужев в казармы Московского полка, где и началось возмущение.
«Князь Щепин-Ростовский, Михаил и Александр Бестужевы и еще два офицера того же полка, – утверждало обвинение, – ходили по ротам 6-ой, 5-ой, 3-ей и 2-ой, уговаривая рядовых не присягать Николаю Павловичу, и говорили: «Все обман, нас заставляют присягать, а Константин Павлович не отказывался; он в цепях; Михаил Павлович также в цепях». Александр Бестужев прибавлял, что он прислан из Варшавы с повелением не допускать полки до присяги.[165]
Генерал-майору Фридрихсу, который наскочил на него, Бестужев пригрозил пистолетом, которым его снабдил князь Щепин в казармах, когда они выходили на двор. Грозя генералу, Бестужев, однако, завернул назад курок пистолета и ни в кого не стрелял.
Генералу Фридрихсу он сказал только: «Отойдите прочь, генерал»; и как раз в этот момент Щепин ударил Фридрихса саблей. Генерал упал, а Бестужев «отвратился от этого кровавого зрелища и вышел из ворот». Вместе со Щепиным он вывел полк из казарм и повел на Сенатскую площадь. Выходя на берег Фонтанки, Щепин сказал Бестужеву: «Что?! Ведь к черту конституция!» – и Бестужев отвечал ему: «Разумеется, к черту!».[166]
С Московским полком прибыл Бестужев на площадь, где «построив каре, отвращал вместе со своим братом (Николаем) все сделанные начальством предложения, удерживая людей от стрельбы, и находился с оными, доколе картечью они не были разогнаны». Насилий он никаких не творил, даже свою «черкесскую шашку он отдал солдату и надел ее только тогда, когда конная гвардия пошла на них в атаку. До этой минуты на нем была только форменная сабля, тонкая, как жесть». Удерживая от стрельбы людей, он чуть не изрубил одного гренадера, который первый выпалил в атакующих. Спас он и генерала Левашова от верного поранения, оттолкнув какого-то неизвестного, который в него целился.[167]
Сам Бестужев с большой печалью говорил в своих показаниях об этих минутах. «Пришедши на площадь и не находя начальников, – рассказывает он, – мы потеряли головы. Ожидание, страх, раскаяние, атаки – все это представляет мне несчастный день этот как в чаду страшным сном. Я не знал, что делать, но лично неповинен ни в одной капле крови. Меня утешает хоть то, что я удалил генерала Нейгарда и спас от черни какого-то невысокого роста Павловского капитана; вот все, что помню я – но да не причтется мне в преступление, если что-либо ускользнуло тут. Угрызения совести прервали нить моих воспоминаний, при том же я тороплюсь облегчить свою душу признанием. Когда я шел в Московский полк, то прежде молился Богу с горячими слезами: «Если дело наше право – помоги нам, – думал я, – если же нет, да будет Твоя воля». Я признал теперь Его волю, – но Божий перст и царский гнев на мне тяготеют… я чувствую теперь, что во зло употребил свои дарования, что я мог бы саблею или пером принести честь своему отечеству – жить с пользой и умереть честно за Государя!! Но Царь есть залог Божества на земле; а Бог милует кающихся… Если случаем бумага сия дойдет до Высочайших рук, то пусть увидят на ней следы желез заслуженного наказания и слез искреннего раскаяния».