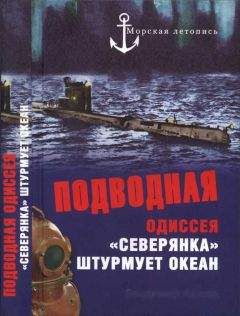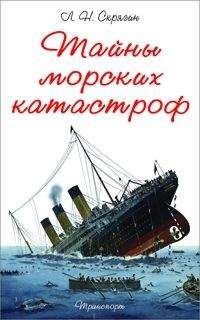Иван Бунин - Том 6. Публицистика. Воспоминания
Клягин А. — инженер, промышленник, литератор. Бунин написал предисловие к книге А. Клягина о Сибири «Страна возможностей необычайных» (Париж, 1947). См.: Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9.
…сговорились об этом еще 3 сентября (августа?). — Декларация об Италии была принята на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, которая проходила 19–30. X. 1943 г.
Зощенко M. М.(1894–1958) — советский писатель. Речь идет о кн.: Зощенко М. Рассказы. 1937–1938. Л., 1938.
Доде Леон (Альфонс Мари Леон; 1867–1942) — французский писатель, журналист и политический деятель. Сын Альфонса Доде. Повести и романы Леона Доде малохудожественны, наполнены эротикой, вульгарно натуралистичны.
Ренье Анри Франсуа Жозеф (псевдоним — Гюг Виньи; 1864–1936) — французский поэт и романист, близкий декадентскому эстетству, декоративности, элегическому нравственному безразличию.
…чудовищный день послезавтра в Нюрнберге. — Речь идет о судебном процессе над главными нацистскими военными преступниками, который состоялся в Нюрнберге 20.XI.1945-I.X.1946 гг. Трибунал приговорил Г. Геринга, И. Риббентропа, В. Кейтеля, Э. Кальтенбруннера, А. Розенберга, Г. Франка, В. Фрика, Ю. Штрейхера, Ф. Заукеля, А. Йодля, А. Зейсс-Инкварта и М. Бормана (заочно) к смертной казни через повешение. В ночь на 16. X. 1946 г. осужденные (за исключением Геринга, который покончил жизнь самоубийством) были казнены.
…Толстой, до 16 лет носил фамилию Бострэм… — Бытовавшая легенда, согласно которой А. Н. Толстой был сыном не графа Н. А. Толстого, а отчима — А. А. Бострома, к которому ушла от мужа мать писателя А. Л. Толстая (урожденная Тургенева). Опровергается позднейшими работами (см., например: Петелин В. Заволжье, М., 1982).
Через некоторое очень малое время меня не будет… — Впечатляющее свидетельство о последних часах жизни Бунина оставил близко знавший его А. Бахрах: «7 ноября 1953 года был последним днем в жизни Бунина, и так случилось, что вторую половину этого дня почти всю я провел с ним с глазу на глаз <…> Когда я пришел, шторы в его комнате были спущены и в ней царил полумрак. От массы лекарственных скляночек и коробочек, нагромоздившихся на его ночном столике, как мне почудилось, шел дурманящий больничный запах. Он лежал, полузакрыв глаза, еще более отощавший за ту неделю, что я его не видел, еще более подавленный, еще более измученный. Его красивое лицо, еще совсем недавно напоминавшее лицо римского патриция, сильно заросло щетиной и было пепельного цвета.
При моем появлении он приоткрыл веки, поворочался, хотя было заметно, что малейшее движение стоит ему больших усилий, откашлялся и затем сразу же — с нараставшей постепенно взволнованностью — стал говорить о бессмысленности смерти, о том, что он не может ни уразуметь, ни принять, как это может статься, что вот был человек и вот его больше не стало. Где граница между этими двумя состояниями? Кто ее определяет? Все он мог, по его словам, вообразить, все понять, все почувствовать, даже все оправдать, кроме одного — „несуществования“ <…> Несмотря на то, что вослед Толстому он любил цитировать крылатую фразу Марка Аврелия о том, что „высшее наше назначение — готовиться к смерти“, он явно был к ней не подготовлен. Я вспомнил, при этом, один обеденный „обмен мнений“, происходивший еще в Грассе, когда Бунин категорически отрицал возможность загробной жизни, утверждая, что противоречило бы высшей логике, если бы после „минутного“ пребывания на этой планете (иногда по отношению к этой планете он применял эпитет „мерзкая“, иногда „прекрасная“) предстояли мириады, зоны лет какого-то непонятного, нерасшифруемого существования, поскольку ничего не было до рождения. Раз есть начало, значит, должен быть и конец, — говорил он, споря с Верой Николаевной, которую его „неверие“ бросало то в жар, то в холод.
Я присел около его постели. На его измятой простыне лежал растрепанный томик Толстого, и, когда я спросил его, что он теперь читает, он, как мне показалось, чуть приободрился и ответил, что хотел бы еще раз перечитать „Воскресение“, но тут же добавил, что читать ему уже трудно, еще труднее сосредоточиться, когда ему читают вслух, и особенно тяжело держать книгу в руках.
А потом почти вскипел, и в тот момент меня особенно поразило, что в его вскрике еще ощущались гневные интонации:
— Ах, какой во всех отношениях замечательный был человек, какой писатель… Но только до сей минуты не могу понять, для чего ему понадобилось включить в „Воскресенье“ такие ненужные, такие нехудожественные страницы…
Он, конечно, имел в виду описание службы в тюремной церкви и совершение таинства евхаристии, которое Толстой отрицал.
Эти последние слова Бунин произнес уже почти с запальчивостью, но вместе с тем с каким-то глубоким внутренним страданием. Не знаю, соответствует ли моя догадка истине, но в тот момент мне было совершенно очевидно, что в чем-то упрекать Толстого, порицать его — причиняло ему физическую боль <…>
Мне приходится еще раз подчеркнуть, что в глазах Бунина Толстой был не только одним из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на свете, — он был „божеством“. А можно ли, допустимо ли в отношении божества высказывать какой-либо упрек, какое-либо порицание? А тут — я не могу категорически утверждать, но мне представляется — ослабевший телом и духом Иван Алексеевич неожиданно для себя натолкнулся на страницы, которые окончательно нарушили его душевный покой и мимо которых он не мог пройти в молчании, — натолкнулся, как я думаю, впервые, потому что вполне возможно, что до того ему не попадался экземпляр „Воскресения“, с восстановленными купюрами, сделанными в свое время цензурой.
Последовавшая внутренняя борьба и физическое усилие, необходимое, чтобы высказаться, не только взволновали его, но и утомили. Он снова закрыл глаза, повернулся к стене и попросил меня на некоторое время оставить его одного — „авось я сумею заснуть“, — прошептал он.
Я вышел в соседнюю комнату, оставив двери открытыми, и я слышал, как он продолжал ворочаться и что-то вполголоса бормотать. Как мне послышалось, он повторял по несколько раз те же два-три слова: „Как он мог, как он мог?“
И может быть, в эту минуту, одну из последних своих минут, он под влиянием прочитанного припомнил встречу с Толстым, как в черную мартовскую ночь они шли по Девичью полю и как Толстой, переживавший тогда одну из самых горьких и болезненных своих утрат — смерть любимого семилетнего сына, Ванички, — резко и отрывисто твердил: „Смерти нет, смерти нет“. Все это Бунин давным-давно описал в своей книге, посвященной Толстому, но вот теперь, когда какие-то толстовские строки вызывали у него отталкивание, он вопреки своей воле, даже, вероятно, нехотя, брал под сомнение запавшие в душу толстовские слова, которые пронес сквозь всю свою жизнь и за которые именно в эти минуты ему больше всего хотелось зацепиться.