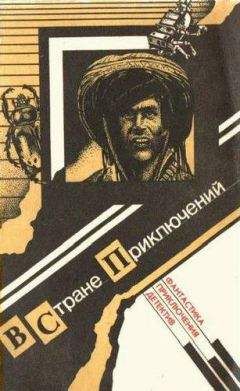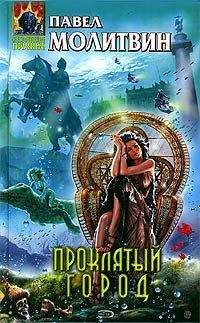Виктор Шкловский - Лев Толстой
Если ты не то что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение. И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твое желание и попытки самоубийства, более всего другого показывая твою потерю власти над собой, делают для меня теперь немыслимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня и, главное, самое себя никто не может, кроме тебя самой. Постарайся направить всю свою энергию не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь, — теперь мое возвращение, а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, и ты получишь, чего желаешь.
Я провел два дня в Шамордине и Оптиной и уезжаю. Письмо пошлю с пути. Не говорю, куда еду, потому что считаю и для тебя и для себя необходимым разлуку. Не думай, что я уехал потому, что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю. Письмо твое — я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнить то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний и требований, а только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой немыслима. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я не считаю себя вправе сделать это. Прощай, милая Соня, помогай тебе бог. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права, и мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо. Л. Т.».
Оболенская и Александра Львовна пошли к Душану. Душан сидел над картой.
Немного погодя пришел Лев Николаевич и, увидев Душана над картой, сказал:
— Только не поеду ни в какую колонию, ни к каким знакомым, а просто в избу к мужикам.
Потом поговорили о поездах, когда ехать. Лев Николаевич начал зевать и сказал:
— Я очень устал. Хочу спать. Утро вечера мудренее. Завтра видно будет.
Елизавета Валерьяновна пошла домой.
В пять часов утра она услышала звонок. Побежала к дверям с мыслью, что Лев Николаевич заболел. Вышла в прихожую, видит — стоит Душан с фонарем и говорит:
— Мы сейчас уезжаем.
— Что? Почему? Куда?
— Лев Николаевич в три часа проснулся, стал будить и торопить, чтобы поспеть на восьмичасовой поезд, который идет на юг. Я пришел спросить, где нанять ямщика.
Елизавета Валерьяновна послала на конный двор разбудить работника, чтобы велели монастырскому кучеру заложить пролетку. Ей жаль было будить мамашу — Марья Николаевна наволновалась, устала и поздно заснула. Е. Оболенская рассчитывала, что пройдет около часа, пока приедет ямщик.
Когда Марья Николаевна и Елизавета Валерьяновна пришли в гостиницу к Толстому, его уже там не было. Он уехал с ямщиком, которого оставила за собой Саша.
Он оставил ласковую, нежную записку сестре и племяннице: «Милые друзья, Машенька и Лизанька. Не удивляйтесь и не осудите меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой я уезжаю».
ЕЩЕ ДОРОГА
Что было перед отъездом из Шамордина?
Предполагалось ехать до Новочеркасска, остановиться у Денисенко, дочери Марьи Николаевны от второго брака, и попытаться взять с помощью ее мужа Ивана Васильевича Денисенко заграничный паспорт. Если это удастся, поехать в Болгарию, а если не удастся — уехать на Кавказ.
Лев Николаевич сидел над картой, разбирался при открытой форточке. Он увлекся, строил планы. Потом встал и сказал:
— Ну, довольно. Не нужно никаких планов. Завтра увидим. Завтра все увидим. Я голоден. Что бы мне съесть?
Александра Львовна и Варвара Феокритова с обычной своей заботливостью и хлопотливостью привезли с собой грибы, яйца, овсянку-геркулес, спиртовку и живо сварили овсянку. Лев Николаевич поел, похвалил стряпню, вздохнул, сказал: «Тяжело», — и пошел спать.
Ранним утром, вернее ночью, он разбудил всех:
— Едем! Едем скорей!
Он боялся приезда Софьи Андреевны или Андрея Львовича.
Было темно. Зажгли свечи. Лев Николаевич все торопился. Вот его запись в Астаповском дневнике 31 октября:
«Саша забеспокоилась, что нас догонят, и мы поехали. В Козельске Саша догнала, сели, поехали».
На станциях стучали телеграфные аппараты, передавали слова простых телеграмм и цифры шифрованных. По дорогам ехали сыщики, жандармы и корреспонденты всех газет.
Измученную Софью Андреевну в Ясной Поляне расспрашивали корреспонденты «Русского слова». Постаревшая, осунувшаяся женщина говорила охотно, потому что в «Русском слове» был напечатан фельетон Власа Дорошевича, очень уважительный по отношению к Софье Андреевне. Старая женщина оправдывалась перед миром.
Толстой ехал. В поезд сели без билетов в 7 часов 40 минут утра, а в 2 часа 34 минуты получили билеты на станции Волово до станции Ростов-на-Дону.
Толстой сам с огорчением узнал из газет, как его ищут.
Между 4 и 5 часами дня Толстой почувствовал озноб. Температура поднялась до 38,1.
В 5 часов 30 минут жандармское управление получило донесение унтер-офицера станции Данков, Дыкина, что Толстой едет в поезде № 12.
В 6 часов 35 минут вечера поезд № 12 остановился у какого-то вокзала. Через окно прочитали надпись: Астапово. Душан Маковицкий куда-то убежал, поезд задержали; через некоторое время он вернулся с начальником станции. Толстого подняли, одели, и он, поддерживаемый Душаном Маковицким и начальником станции, вышел из вагона. Варвара Михайловна Феокритова осталась, чтобы собрать вещи.
Вынесли вещи. Поезд ушел. Александра Львовна пошла в вокзал и нашла отца сидящим в дамской комнате. Он сидел на диване в уголке и дрожал весь с головы до ног. Около двери стояла толпа любопытных: в комнату то и дело врывались дамы, извиняясь, оправляли перед зеркалом прически и шляпы, смотрели на отражение Толстого и уходили.
Душан Маковицкий, Варвара Михайловна и начальник станции ушли приготовлять комнату для Толстого.
Вскоре вернулись; подняли Толстого, повели под руки через зал. В зале было много народу. Все сняли шапки, кланяясь; Лев Николаевич, дотрагиваясь до шапки, отвечал на поклоны.