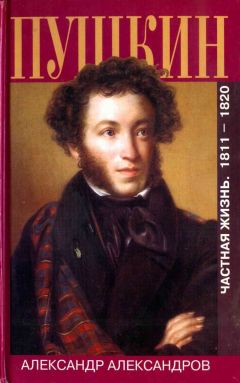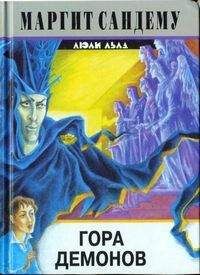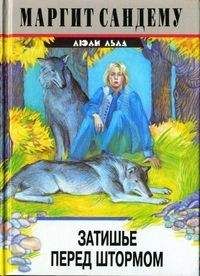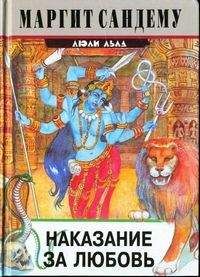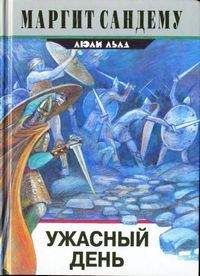Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
— На бумаге?!
Граф кивнул.
— Нет, попрошу меня уволить от такого поручения, — твердо сказал Каразин.
— Отчего же вы отказываетесь? — удивился граф. — Вы уже бросили на себя тень. Мне трудно будет убедить государя. Надобно, Василий Назарьевич, оправдаться. Если это Пушкина пашквиль, — сказал он подчеркнуто по-старинному, — так пусть будет его рукою или хотя бы кто покажет на Пушкина, список, наконец, даст верный.
Каразин никак не мог прийти в себя, ему предлагалась роль шпиона, агента, какого-то Фогеля, а он ведь считал себя спасителем отечества.
— Осмелюсь, ваше сиятельство, возвратиться к тому, что я уже говорил: моя цель быть употребленным по департаменту, который я предполагаю совершенно необходимым и который поручениями Лавровым, фон Фоком, Фогелем и прочими никоим образом заменен быть не может.
— К графу Милорадовичу, — улыбнулся в ответ граф Кочубей. — А мне пишите все, что сочтете нужным, — сказал он, на прощанье подавая Василию Назарьевичу мягкую барскую руку.
Выйдя, Василий Назарьевич сначала долго смотрел на богатый дом графа Кочубея, с садом и оранжереями; на садовой стене торчали бюсты арапов из черного и белого мрамора; черные арапы улыбались, а белые были печальны. Черный арап, белый арап, черный арап, белый арап — так он прошел мимо садовой стены и переулком вышел на улицы вечернего Петербурга, извозчика он не брал. Василий Назарьевич был потрясен и раздавлен.
«Как! Печальная и праведная картина о положении в государстве не произвела никакого впечатления! Их интересуют только эпиграммы мальчишки. Правильно сказал митрополит Евгений о нашем мартовском споре в Вольном обществе: «Ребятишки высекли своих учителей»… Ребятишки нас не слушают, над нами смеются… А те тоже не лучше. Лучше их совсем оставить: да идут во страшение судьбе, их ожидающей; надо думать только о спасении своего семейства во время грозно. А оно придет, и придет скоро! И тогда я погибну, защищая с оружием в руках последний вход в комнаты государевы! — мысленно воскликнул он. Патетика в чувствах совсем не была ему чужда. Но тут же спохватился, разум превозобладал: — Что-то тут у меня не согласуется: или с семейством, или при последнем входе в комнаты государевы. Что-нибудь одно. Уж, верно, как получится. Где окажусь, там окажусь…»
Он остановился на Казанском мосту. Вдруг как громом поразила его мысль, что сегодня 12 апреля, прошло ровно 19 лет и один месяц с тех пор, как стоял он здесь, на Казанском мосту, 12 марта 1801 года. В ночь перед сим днем совершилось еще раз в новейшей российской истории нередко уже случавшееся государственное преступление: цареубийство. Душа его не одобрила его тогда. Он живо вспоминал себя стоящим на Казанском мосту со сжатым сердцем, со взором то потупленным, то обращенным на окна бывшего Леонова дома, где в четверток Страстной недели злодеи имели бесстыдство пировать перед очами, так сказать, всей столицы, перед очами доброго и верного царя и своего народа. О! да было бы это преступление, пятнающее всех нас, последним! Но кажется, не будет это так, потому что дух времени приуготовляет другие уже преступления и злодеяния.
«Как добрый сын отечества, как верный подданный рассеянного в мыслях, обманутого и обманываемого каждый день Александра, пред коим я сию минуту становлюсь на колени и со слезами обнимаю его, я сделал все, что мог, и еще сделаю, если они ко мне обратятся! Мне запрещено обращаться к государю — я буду писать графу, я пошлю ему все выдержки из журналов, и постепенно ужасающая картина составится перед его глазами. Надо честно писать и о лицах, подозреваемых во вредных умыслах, как-то: о Волконском, о Кюхельбекере, о Глинке и о Пушкине, недостойном бывшем лицеисте. Эх, — вдруг вспомнил он с горечью. — Надо было рассказать графу, хоть изустно (бумаге такое доверять нельзя), анекдотец, который давеча слышал от одного из почтеннейших людей — Александра Ермоловича Мельгунова. Какой-то одиннадцатилетний мальчик, обучающийся в Лицее, дома у себя, среди ласк матери, сказал ей: «Я бы, маменька, сказал вам что-то, только сделайте милость не говорите папеньке». Мать настояла, удвоила ласки и, наконец, узнала от него, что в Лицее обычай злословить государя, называя его дураком и т. д., и что между воспитанниками положено жесточайше наказывать того, кто выдаст этот образ мыслей или вообще все, что делается в Лицее. Вот вам, ваше сиятельство, кое-что о духе сих царских баловней».
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,
Но Каразин явно недооценил противника. Он не понял, с кем связался. Безусловно, он всегда помнил, что Федор Глинка был чиновником для особых поручений при генерал-губернаторе, но он не мог себе представить каким доверием снисходительного и самовлюбленного графа Михаила Андреевича Милорадовича Глинка пользовался. В его обязанности входило собирание городских слухов, но он же в первую очередь и узнавал о правительственных планах и о всех доносах, поступающих наверх. С одной стороны — крупный масон, член «Ложи Избранного Михаила», входящей в Великую Ложу «Астрея» (он был последовательно — оратором, надзирателем и наместным мастером ложи), один из руководителей Союза Благоденствия, член всевозможных обществ, а с другой — государственный служащий, доверенное лицо генерал-губернатора графа Милорадовича, а значит, и самого государя Александра Павловича. Граф Михаил Андреевич, как говорили, сам собой и из самого себя сочинил нечто вроде министра тайной полиции, хотя сия часть, после упразднения Министерства полиции, перешла в руки графа Кочубея, который для нее, можно сказать, не был ни рожден, ни воспитан. Он охотно перекидывал дела Милорадовичу, Милорадович интересовался ими скорее из любопытства и из желания угодить государю, но был ветреник и гораздо больше времени тратил на актрис и воспитанниц Театральной школы, Глинке при таком начальнике было раздолье.
Федор Николаевич был тщеславен, потому и вступал во все общества, посещал все открываемые курсы, пока совсем на этом не помешался, некоторые успехи в словесности, как считали многие, вскружили ему голову; он был вхож во многие дома, заводил связи где только можно, щелкал шпорами по всем паркетам и часто по слабости тщеславия своего рассказывал многим за тайну, что узнал по должности.