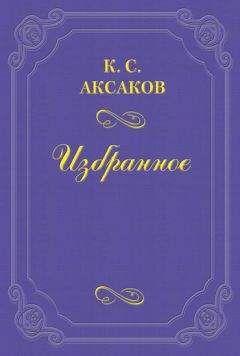Андрей Снесарев - Письма с фронта. 1914–1917
Из письма Осипа я не понял ничего о твоем состоянии, хотя просил его прежде всего написать мне об этом, и подробно. Из его анализа, что ты будешь рожать в этом месяце, а его жена в октябре, мне интересен только второй вывод, так как я лично не мог бы его вывести, не имею к октябрьскому эпизоду никакого касательства. Все остальное содержание его письма, интересное само по себе, особой остроты для меня не имело.
Мой Н[иколай] Ф[едорович] за последние дни исхудал и поугрюмел, стал молчалив и даже обнаруживает попытку к уединению. Скучное стояние дома и шаги кума делают его состояние нервным и тоскливым. Это человек определенный. «После войны, – говорит он, – так как у меня отберут последнюю землю, а на военной службе по ее унизительной оценке я остаться не могу, заниматься же более ничем не умею, я сформирую шайку разбойников и начну работать по большим дорогам, благо желез[ных] дорог к тому времени не останется… и будут говорить – «по старой Калуцкой дороге на 49-й версте»… ребенков-то я убивать не буду, а кое-кому покажу». Свою идею он создал не без моего влияния. Я как-то вечером стал набрасывать картину культурно-хозяйственного состояния России после войны, без жел[езных] дорог, шоссе, с дурной почтой и т. п., и сказал, что я предвижу запустение районов и появление шайки разбойников, и все это в пределах бывшей Московии, не более. Начал знакомиться с коммунистическими евангелиями, прочитал Манифест коммунистов (Маркса и Энгельса) и подивился невежеству и самоуверенности этих двух пророков… некоторые страницы нельзя прочитать без улыбки.
Давай, моя золотая, твои глазки и губки, и наших малых, я вас обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.Целуй Алешу, Нюню, мальчиков. А.
6 сентября 1917 г.Дорогая моя женушка!
Только что объехал поля, где производятся занятия двух моих полков. Утро было прохладное, по небу бежали тучки, то закрывая, то открывая солнце, в лицо при сильном ходе дул небольшой ветерок. Картина занятий современная: вялая, небрежная, с отбыванием номера. Поговоришь там, объяснишь здесь, как будто даже погорячишься, но каждый раз засосет сердце: к чему все это, никто не хочет ни работать, ни воевать, и та внимательность лиц, которую ты видишь, это – минутная игра, не оставляющая у себя на душе никакого проследа. Была у солдата нашего душа, да еще какая душа – беззаветная, мужественная, стойкая, мировая, а теперь кто-то подкрался к нашему солдату и выкрал – нет мало – вырезал его душу, и осталась там пустота. И как к этой пустоте подойти, как ее взволновать, как ее поднять на подвиг, как в нее всунуть лик родины, никто не знает: секрет потерян.
Я тебе уже раз писал и повторю еще: если Бог пошлет сына, назовем его Георгием, в честь моего боевого патрона и покровителя, а если пошлет дочку, то назовем Ольгой в честь бабушки. Во втором мы с тобой сходимся, а в первом ты проектируешь имя Александр; за мною в этом случае давность, так как уже в декабре прошлого года говорил тебе на счет Георгия. А кроме того, 26 ноября все равно придется праздновать Георгиевский праздник, заодно уж будем праздновать и именины младшего сына. По этому вопросу ты обязательно не забудь мне ответить.
В газетах полная неразбериха. Наши православные упорно твердят, что во всей истории Керенский был заодно с Корниловым, но дело не вышло и первый предал второго. Конечно, это одна из миллионных легенд, летающих среди сонма теперешних воинов; с ума можно сойти, если еще перестанет работать фантазия, но все же есть какая-то муть во всем этом процессе: Керенский говорит, что Корнилов послал к нему Львова, а Корнилов утверждает, что Керенский послал к нему Львова и Савинкова, прибавляя, что с ним сыграли провокацию. Вот и разберись. Среди офицерства ходит догадка, что оба – и К[еренский], и К[орнилов] – хотели просто-напросто избавиться от Петроградского совета, но это не удалось… В вечер[нем] выпуске «К[иевской] мысли» за 2 сент[ября] имеется интересный ряд телеграмм (в утреннем выпуске не повторенный), который вносит совершенно новое и особое освещение событий. Там видно, что все трое главнокомандующих фронтами категорически высказались против удаления Корнилова; мало этого, высказались так и все командующие армиями, до которых дошли весть или какое-то постановление. Словом, удаление Корнилова как-то предшествовало его последующему шагу. Для меня все это полный туман, который я лишь до некоторой степени проясняю, читая «Русское слово», присланное тобою. Уже в Москве определилась непримиримость между Корниловым и Советами, и, вероятно, уже с 15 авг[уста] начали зреть: у одних – мысль удалить Корнилова, а у него – бороться с этим. Я думаю, что ближайшие дни хотя и не откроют всех карт, но для понимающих многое сделают ясным.
Прости меня, мой милый жен, что я увлек тебя в область политики, хотя она для нас – картина вне, в которой мы – не действующие лица. Ты пишешь о вашем будущем распределении комнат. Оно будет тесновато. Но разве нельзя поискать помещение – хотя бы комнату в ближайшем доме, это бы сильно освободило комнаты. Против вас через дорогу – огромный пустой дом, там можно найти, сколько влезет. Если вы возьмете пять мальчиков, да вас восемь, получается 13 на пять комнат, т. е. почти три человека на комнату, а с будущим человеком и почти полных три. Для спанья, когда все угомонятся, это еще ничего, но днем, когда все это будет кричать и ссориться, это очень и очень шумно. Конечно, твоя мысль платить Ане 350 руб. лучше всего, что можно выдумать, но она сложна и, вероятно, ставит Нюню в несколько щекотливое положение; с мальчишками труднее, но зато она будет иметь успокоение, что заработает лишним трудом и беспокойством.
Я чувствую, что монотонная жизнь моего домостояния начинает мне надоедать, может быть, уже надоедает и командование дивизией. Этой я командую вот уже пять месяцев, да тою прокомандовал три месяца, итого восемь. Достаточно. Конечно, генерал Павлов (Каменецкий), прокомандовавший дивизией уже три года, несколько больше утомлен, чем я, но все же и я попрактиковался немало. Если получу корпус и хотя немного буду в силах завернуть к вам, попробую… хотя обычно это очень трудно. Игнат, у которого перестали болеть зубы, начинает зубоскалить: врет, смеется над Осипом, который ни одной секунды не может быть неженатым и т. п. Давай, дорогая моя и золотая, твои глазки и губки, а также наших малых, я вас обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.Целуй Алешу, Нюню, малых. А.
7 сентября 1917 г.Дорогая моя женушка!
Вчера вечером получил твое письмо от 28.VIII (777). Первая страница его полна тревоги; ты почему-то думаешь о моем «нездоровье». Я, голубка, здоров, по крайней мере телом: ем с аппетитом, много гуляю по своему садику, хорошо сплю. Что касается до моего настроения, то о нем я постоянно что-либо тебе черкну. Конечно, это тебе дает каждый раз облик того душесостояния, которое я ношу в минуты писания или во время, близкое к этим минутам: твой образ, встающий в моих глазах, наши малые и вся та обстановка, которая вас окружает, все это налетает на «Можно войти?» – «Войдите». Входят три солдата, делегаты от роты, которые (с разрешения командира полка) пришли поделиться со мною своими невзгодами. Они – члены ротного комитета и никак не могут уговорить роту, которая бушует, нервничает, волнуется, страдает, ломает руки и жалуется Господу Богу на несправедливости мира сего. Я не пишу, моя роскошь, о каких-либо институтках, слабонервных, малокровных, с глазами на болоте; нет, пишу о сотне дюжих молодцов, упитанных и прочных, как хорошие пни, но они теперь все расслабли, разнервничались, способны глубоко страдать от укуса мухи. Мы начинаем рассуждать, и я (игрою слов или мысли, иногда нарочитой) прижимаю их порою к такой стене, что они, как сазаны, молча начинают смотреть друг на друга. Я не выдерживаю и начинаю хохотать, и они. В конце концов, мы находим какой-то вывод, и они, видимо, примиренные, уходят. Их уже нет, но приходит вновь прибывший в дивизию батюшка, и мы поговорили с ним немного о делах и завтрашней службе. Потом с маленьким докладом заворачивает Н[иколай] Ф[едорович] (он замещает теперь начальника штаба), и я что-то подписываю. После него вваливается Игнат с заявлением, что идут гонять Ужка на корде; одеваюсь и выхожу за ними. На пути мне представляются два новых подполковника, прибывших в мою дивизию. Я обмениваюсь с ними рядом фраз и иду на круг, где мы трое (Шинкарчук, т. е. Авксентий, Атласюк, т. е. Игнат […] и я) гоняем бедного Ужка: понукаем, ругаем, щелкаем кнутом и пальцами и т. п. И вот только теперь, когда без десяти минут 19, я могу вновь продолжать мысль, прерванную на первой странице.