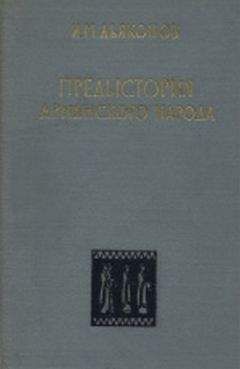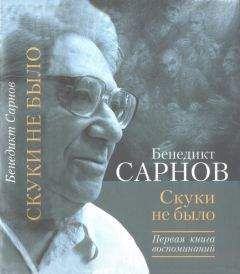Игорь Дьяконов - Книга воспоминаний
Это непроизвольное нарушение Великого Правила — не каприз, но зависит от имманентного недостатка того же единого этического принципа: дело в том, что он абсолютно действителен только между двумя людьми, но недействителен, если речь идет об отношениях также с третьим. Подобно задаче трех тел в небесной механике, эта задача не имеет очевидного решения, во всяком случае без привлечения в высшей степени изощренного математического аппарата, которым «я» не может оперировать в своих отношениях с людьми. Благо моего ближнего имеет право преимущества перед моим благом. Ну а если я имею дело одновременно с двумя людьми, то очевидно, что благо как одного, так и другого имеет преимущество перед моим. А что будет, если благо одного не есть благо другого? Или, если я должен уступить свое благо моим ближним, то как мне выбрать между ними, когда благо, как чаще всего и бывает, неразделимо?
Притча: два ребенка одного пола и возраста тонут в канале. Я, женщина, могу спасти только одного ребенка. Кого выбрать? (Задача Буриданова осла).
Предположим, что один ребенок — мой. Буду ли я подлежать этическому осуждению, если я, мать, спасу своего ребенка?
Конечно, если мы обратимся к житийной литературе, скажем «Житию Алексея Человека Божьего» (или житию того, другого типа, имя которого я забыл, который оставил свою пятнадцатилетнюю сестру на произвол мужчин в городе и отправился спасать в монастыре свою душу)[346], — или обратимся к другим подобным несимпатичным историям, то покажется, что сделать праведное дело ценой страдания наиболее близких к тебе людей именно и есть вершина святости.
Но нормальный порядочный человек, не святой и не Будда, сказал бы, что на женщине, спасшей своего ребенка, а не другого, нет морального пятна. Причина в том, что подобно тому как первый этический принцип врожден человеку, — являясь кантовским «категорическим императивом», — так же точно и разделение ближних на концентрические круги — тоже чувство врожденное.
Другая притча: мужчина любит женщину, но обручен с другой (или состоит в браке, или связан моральными обязательствами). Ясно, что женщины эти имеют преимущества перед мужчиной. То обстоятельство, что он любит, в данном случае значения не имеет. Но ясно ли, что мужчина должен отдать предпочтение той, с которой обручен, а не той, которую любит? А если она тоже любит его, а будущая невеста — нет? Или если мужчина, отвергнув любимую женщину, вызовет ужасные последствия, в то время как другая довольно равнодушна к возможному ходу событий? Число возможных вариантных ситуаций бесконечно, и почти всегда нет простого ответа на задачу.
Еще одна притча, и именно та самая, которая вызвала к жизни «Киркенесскую этику». Это случай войны. Конечно, война препятствует универсальному толкованию понятия «ближний» и в любом случае есть величайшее из преступлений. Но оставим это пока в стороне и не будем также задаваться вопросом, кто виновен в войне. Возьмем этические проблемы, которые в условиях войны должны решать простые люди, как мы с вами.
Война, раз начавшись, сразу разделяет всех людей резкой чертой фронта. К противнику не относятся никакие этические преимущества. Убить противника не значит совершить убийство. Теоретически это относится только к вооруженному и носящему форму противнику, не находящемуся в плену. В реальной действительности — ничего похожего. Пилот-бомбардировщик сбрасывает свой смертоносный груз, прекрасно зная, что он разорвет на части, или может разорвать на части, и гражданских лиц, детей. То же относится к артиллеристу и (чаще, чем обыкновенно полагают) к рядовому пехотинцу. Грабеж, кража, изнасилование сопутствуют каждой войне. Автор «Киркенесской этики» начал свою военную службу с кражи сена у крестьянина: его люди расположились в неотапливаемой хибаре, на дворе был октябрь, а место действия недалеко от полярного круга.
Теперь предположим, что в этих условиях есть довольно большой участок фронта, сильно укрепленный противником и окруженный диким лесом, а командующий армией (или командир дивизии) в течении десяти месяцев не имеет сведений о том, что происходит позади вражеских укреплений. Одна разведгруппа за другой погибает, командир потерял уже четыреста — пятьсот человек, и наконец разведчики приводят пленного офицера. Но этот офицер молчит и этим исполняет свой долг, ибо от его молчания зависит жизнь тысяч его товарищей. Что должен делать наш командир? Является ли тот факт, что офицер противника приволочен на эту сторону фронта и разоружен, чем-то, из-за чего он автоматически переводится в круг ближних из круга неближних? А даже если так, то разве долг командира по отношению к дивизии не перевешивает его долг по отношению к пленному?[347]
Я не думаю, чтобы подобные проблемы имели разумное решение; они должны решаться в основном интуитивно. Но говоря так, мы, по-видимому, разрушаем все сложное построение универсальной этики, и прежде всего первого этического принципа, который мы вначале объявили врожденным. Разве девяносто процентов этических проблем, встающих перед нами, не являются проблемами трехчленного или более сложного характера? Нет простого решения для каждой этической задачи в частности, но есть общее правило этического поведения.
Мы переходим ко второй максиме этических принципов, которая тоже носит всеобщий характер: по мере твоих сил не умножай мирового страдания. Это правило более трудно для интерпретации.
Мы еще не дали определения «добру» и «злу». В биологическом смысле «добро» — это, видимо, просто выживание рода. Однако это не может быть прямой целью действия, мотивированных нашей совестью, потому что такие действия иррациональны, автоматичны и эмоциональны. Поэтому, когда индивид действует интуитивно в соответствии со своей совестью, он не может знать, что важно для выживания вида в данном случае: решение, принятое спонтанно, по обстановке, в какой-либо не предрешенный заранее момент, не может определяться высшими соображениями; оно складывается именно иррационально, автоматически и эмоционально. Однако же, если индивид попросту старается не умножать каких бы то ни было страданий в мире, он совершает косвенным образом поступок, способствующий выживанию вида, и в этом смысле совершает «добро» и в биологическом смысле.
Что касается «зла», то единственное толкование этого понятия, не вызывающее противоречий, — отождествление зла со страданием[348]. Страдание может прямо, немедленно, эмоционально быть воспринято нашими чувствами; мало того, человек способен также к сочувствию страданиям других. Поэтому правило «не причиняй другим страданий» не превосходит человеческих возможностей, даже при условии, что действие это автоматическое и эмоциональное.
Правда, если сравнительно легко установить, кто твой ближний — по крайней мере, в рамках унаследованных норм нашего круга, нашего общества, нашего идейного окружения, — и если сравнительно легко даже определить, какие мои действия увеличат зло в мире, страдания в мире, то гораздо труднее выбрать, какие из моих действий более, чем другие, увеличивают зло в мире. Что надо особенно иметь в виду — это отдаленные последствия наших действий (сравните «Фальшивый купон» Льва Толстого). Несомненный факт, например, что насилие, которое в момент его совершения казалось необходимым и меньшим злом (скажем во время войны или гражданской войны), имеет тенденцию полностью менять сознание лиц, его применявших, и вызывать цепную реакцию насилий, которые могут продолжаться без конца в течение десятилетий. Это легко подтвердить общеизвестными фактами из истории XX века. А значит, правило о неумножении страданий в мире верно и в социологическом смысле.
Что касается религии, — во всяком случае, если взять современные религии —это правило, очевидно, верно.
Возвращаясь к трудностям выбора между действиями, увеличивающими сумму страданий (как выбрать, которое из них меньше увеличивает страдания?), мы опять приходим к интуиции, то есть, в конечном счете, к совести. Мы уже упоминали, что почти никто из людей не лишен совести полностью, однако тут следует различать два типа людей: с одной стороны — фанатиков, идеально приспособленных к действию, но видящих только одно непосредственное следствие из него, и интеллигентов, способных видеть этически разные стороны предмета и тем самым более ограниченных в своей способности действовать. Однако эта ограниченность лишь мнимая, потому что она, в сущности, сводится к ограничению способности увеличивать страдания мира. Но поскольку решение относительно моих действий целиком зависит от моей интуиции, моей совести — и, конечно, от моей свободы воли, это вытекает из функциональной роли совести, — постольку «Царство Божие внутри нас»: только мы сами можем оказать милосердие и проявить самоотверженность и самопожертвование.