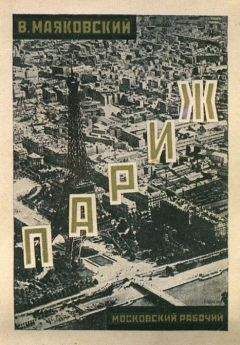Дмитрий Фурманов - Из дневников (Извлечения)
Набралось листов 20 — под ними будет группироваться и в них вписываться разный материал по этим именно категориям. Это первая стадия работы.
Дальше — на стол все мои записки о писателях, по МАППу, все мои дневники, газеты и т. д. и т. д. и каждую бумажку — к определенному типу или вопросу (литкружок, партком и т. д.).
Все это разбирается, подшивается, все это зачем-то надо мне — пока не знаю точно — зачем и в какой степени. Многое-многое, разумеется, подшито зря, не туда, куда надо, многое следует перегруппировать или вовсе выкинуть, — пусть, это потом, а пока так надо. И я делаю.
А сюжета — нет. Сюжета все нет. Скелета книги не имею — имею в голове и сердце только разорванные отдельные картинки: вот сценка в МКК, вот заседание литкружка, наше ночное бдение и т. д., но целого нет: с чего начну, чем кончу, как — этого не знаю.
Говорил как-то с Федей Гладковым, дней 5–6 назад, он мне и посоветовал: «Ты три-четыре типа коренных возьми, их продумай от начала до конца — а остальные все пришьются сами». Я подумывал над его словами.
Вчера с Наей потолковали — не в мемуарной ли форме все писать? И над этим подумал. Все думаю-думаю, а решать гожу. Дочту вот дневники — так писать надо. И как возьму ручку в руки, как напишу первые строки — не удержишь. Знаю.
(1925)
Когда не пишется — я злой хожу взад-вперед, с угла на угол — как в клетке зверь.
И(ван) Вас(ильевич) по-иному:
На столе стоит деревянная деревенская баба — знаете это: кустарка, раскрашенная.
Он ей отвинчивает голову — вынимает бабу поменьше, потом отвинчивает голову этой — и до тех пор, пока в ряд не выстроится баб с дюжину, одна пониже ростом другой. Тогда начинается обратный процесс: вставляет бабу в бабу. В общем — приятнейшее занятие, проходить оно может часами, и думать в это время куда как хорошо.
Иной раз уйдет от стола — так и забудет дюжину баб. Подойдет потом жинка, улыбнется, все поймет.
(После 27 декабря)
Сережа-то Есенин: по-ве-сил-ся!
У меня где-то скребет и точит в нутре моем: большое и дорогое мы все теряли. Такой это был органический, ароматный талант, этот Есенин, вся эта гамма его простых и мудрых стихов — нет ей равного в том, что у нас перед глазами.
И Демьян[60] давеча тоже:
— Такое, говорит, ему спускали, ахнуть можно! Меня десять раз из партии выгнали бы… А его — холили вот, берегли… Преступник, одним словом, — пропил, дьявол, такое дарованье. Отойдет вот похоронная страда лекцию прочту о нем… злую! Отхлещу от самого сердца!
И мы посидели — погоревали, талант богатый Сережин оплакали:
— Что дать-то мог парень — э-эх, много!
Я сижу вспоминаю последние мои с Сережей встречи. А прежде всех самую наипоследнюю.
Пришел он с неделю-полторы назад к нам в отдел — мы издаем ведь его собрание сочинений, так ходил часто по этому делу.
Входит в отдел… Пьяненький… вынул из бокового кармана сверток листочков — там поэма, на машинке:
— Прочесть, что ли?
— Читай, читай, Сережа.
Мы его окружили: Евдокимов Иван Вас(ильевич)[61], я, Тарас Родионов[62], кто-то еще.
Он читал нам последнюю свою, предсмертную поэму[63]. Мы жадно глотали ароматичную, свежую, крепкую прелесть есенинского стиха, мы сжимали руки один другому, переталкивались в местах, где уж не было силы радость удержать внутри.
А Сережа читал. Голос у него, знаете какой — осипло-хриплый, испитой до шипучего шепота. Но когда он начинал читать — увлекался, разгорался, тогда и голос крепчал, яснел, он читал, Сережа, хорошо. В читке его, в собственной, в есенинской, стихи выигрывали. Сережа никогда не ломался, не кичился ни стихами своими, ни успехами — он даже стыдился, избегал, где мог, проявленья внимания к себе, когда был трезв.
Кто видел его трезвым, тот запомнит, не забудет никогда кроткое по-детски мерцание его светлых, голубых глаз.
И если улыбался Сережа — тогда лицо его становилось вовсе младенческим: ясным и наивным.
Разговоров теоретических он не любил, он их избегал, он их чуть стыдился, потому что очень-очень многого не знал, а болтать с потолка не любил. Но иной раз он вступал в спор по какому-нибудь большому, положим, политическому вопросу: о, тогда лицо его пыталось скроиться в серьезную гримасу, но гримаса только портила невинное, не тронутое большими вопросами борьбы лицо его.
Сережа хмурил лоб, глазами старался навести строгость, руками раскидывал в расчете на убедительность, тон его голоса гортанился, строжал. Я в такие минуты смотрел на него, как на малютку годов 7–8, высказывающего свое мнение (ну, к примеру, по вопросу о падении министерства Бриана). Сережа пыжился, тужился, видимо, потел — доставал платок, часто-часто отирался. Чтобы спасти, я начинал разговор о ямбах…
Преображался, как святой перед пуском в рай; не узнать Сережу: вздрагивали радостью глаза, весь его корпус опрощался и облегчался, словно скинув с себя путы или камни, голос становился тем же обычным, задушевным, как всегда, — и без гортанного клекота, — Сережа говорил о любимом: о стихах.
Потом поехали мы гуртом в Малаховку к Тарасу Родионычу: Анна Берзина, Сережа, я, Березовский Феоктист[64] — всего человек 6–8. Там Сережа читал нам последние свои поэмы: ух, как читал!
А потом на пруду купались — он плавал мастерски, едва ли не лучше нас всех. Мне запомнилось чистое, белое, крепкое тело Сережи — я даже и не ждал, что оно так сохранилось, это у горькой-то пропойцы!
Он был чист, строен, красив — у него ж одни русые кудельки чего стоили! После купки сидели целую ночь — Сережа был радостный, все читал стихи.
А потом здесь вот, в Госиздате, встречались мы почти что каждую неделю, а то и чаще бывало: пьян все был Сережа, каждоразно пьян. Как-то жена его сказала, что жить Сереже врачи сказали… 6 месяцев — это было месяца три назад! Может, он потому теперь и кончил? Стоит ли де ждать? Будут болтать много о «кризисе сознания», но это все будет вполовину чепуха по отношению к Сереже, — у него все это проще.
1926 ГОД
1 января
Мой рост, отточка мастерства за последний год, выросшая бережность и любовь к слову, бережность к имени своему — это все не раз наводило меня на мысль переработать коренным образом «Чапая» — самую любимую мою книгу, моего литературного первенца.
Мог ли бы я его сделать лучше? Мог. Могу. Помню, Бабель как-то говорил мне: