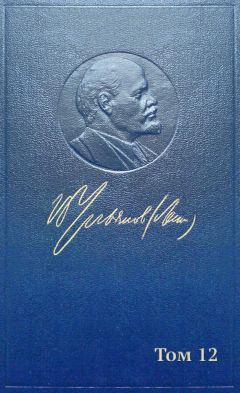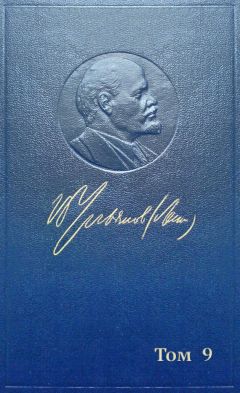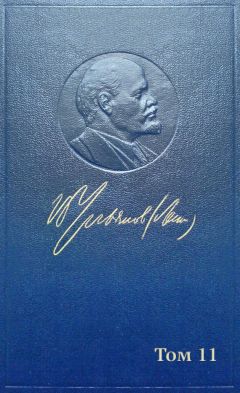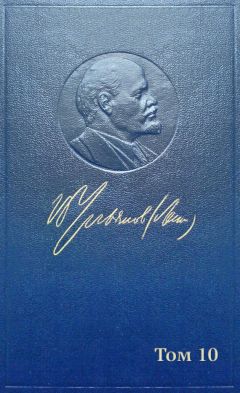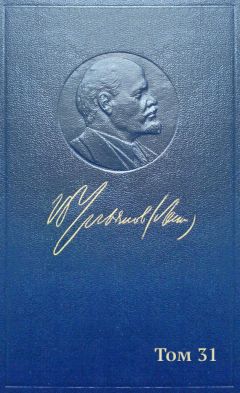Астра - Изверг своего отечества, или Жизнь потомственного дворянина, первого русского анархиста Михаила Бакунина
Наконец-то!
— Миша, ради Бога, переведи «Наставление к блаженной жизни» и подари нам, — просила Татьяна. — Я не буду покойна, пока у меня не будет этой книги! Хочется ее тысячу раз перечесть, особенно последнюю лекцию.
Не отставала и Варенька. Она уже растила сыночка Сашеньку, но неделями, месяцами жила в родительском доме. Это не нравилось отцу, который обвинял Мишеля в том, что тот убил в сестре чувство любви к мужу, и непрошенными хлопотами о разводе разрушает семью. Но Николай Дьяков, сердечный добрый малый, все прощал и по-прежнему безоглядно любил жену.
— Мишель, я жду «Назначение человека» Фихте, ты обещал! — напоминала Варенька.
Любаша искала в его письмах сообщений о Николае. Ах, как сожалела она о напускной холодности, которой окружила себя в его присутствии! Они тянулись друг к другу через время и расстояние, возвышенные родственные души, но как подать весть, не нарушив приличий, необычайно строгих к благородной девушке, Любаша придумать не могла.
— Ты дал нам новую жизнь, Мишель, ты помог увидеть цель нашего существования, — писала она. — И тебя здесь нет, чтобы порадоваться на плоды своего труда, чтобы разделить с нами счастье, придать нам силы и храбрости, потому что, по-правде сказать, немало препятствий предстоит нам побороть. Твое малое стадо тебя ожидает. Только не отымай у нас религию, которая является самым драгоценным нашим благом на земле.
Его ответ звенел железом, словно удар меча.
— Опять сомнения? Что же, они никогда не кончатся? Ваша истинная жизнь состоит в дружбе со мной. Никакой пощады тем, кто ее не заслуживает.
Он переживал давно не испытываемую им полноту жизни. Друзья встречались часто, и были открыты друг другу со всем пылом юности.
— Подобные знакомства необходимы для того, чтобы не потерять веры в высокое назначение человечества, — рассуждал Мишель в присутствии друзей. — Я на своем пути. Я подружился с вами, и здание моей духовной жизни уже имеет прочные основания. Но отымите опору — оно упадет. Пойдемте вместе, бодро и смело.
После Левашовых он сбежал к Станкевичу, потом снимал квартиру, возвращался к Левашовым, жил у Белинского, и занимался, занимался, выходя из дома только на уроки, читал Гете, Шиллера, Жан-Поль Рихтера, Гофмана. Его интересы охватывали историю Греции, историю христианства, всеобщую историю, его убористые конспекты с собственными замечаниями превращались в самостоятельные труды по изучаемой теме. Еще никогда не наслаждался он таким чудным, таким полным покоем. Он ощущал рай в душе. Каким великим он чувствовал себя в иные минуты!
Молодые люди сходились после дневных трудов. И с улыбкой авгуров судили обо всем на свете!
— Фихте мечтает уничтожить Зло, и уверяет, что победа Добра обеспечена, несмотря на все препятствия.
— Откуда такая уверенность? Что есть Добро?
— Любовь, если следовать Фихте.
— Но он же заявляет, что для него в мире нет решительно ничего, кроме его «Я».
— Интересно, что думает об этом фрау Фихте? — Мишель сделал испуганное лицо.
Все расхохотались. Они сидели у Станкевича в опрятной квартире, в которой за двумя-тремя дверьми помещалась кухня и прислуга. Вечерело. Николай сидел за фортепиано и тихонько наигрывал вальс Грибоедова.
За окнами крупными быстрыми хлопьями падал мокрый весенний снег.
Скатав длинными пальцами хлебный шарик, Мишель с изощренной точностью выстрелил им в пламя свечи, одной из трех в канделябре, стоявшем на дальнем краю стола. Пламя погасло. Мишель, потягиваясь и доставая в прыжке до потолка длинным средним пальцем, принялся ходить по комнате, заворачивая в коридор, возвращаясь. Облако дыма окутывало его косматую голову.
— Друзья мои! — говорил он. — Потеряв многие годы, я наверстываю огромными шагами, и скоро, скоро истина откроется мне. Мое «Я» божественно и сознает свой божественный источник! Я хочу быть сильным, ибо мне предстоит еще многое совершить и много пострадать. Вот почему, чтобы быть порядочным человеком, мне необходимо быть в беспрестанном соприкосновении с внутренним миром. Я жажду действительности, ищу бурь и штормов. О! Другие бегают ударов, а мне нужны удары! Мое самолюбие чисто внутреннее и не заботится о внешнем, поэтому можно указать на мой недостаток без опасения меня задеть. Висяша! Заметь себе это, и не завешивайся дымом. Вот моя грудь. Где твой критический меч?
Белинский тоже курил трубку, в воздухе плавали густые клубы дыма. Прочитавший днем горы стихов и прозы, поток самых разнородных, и сносных, и скверных книг, выходивших в России этой весной 1836 года, и написавший на них множество журнальных рецензий и статей, изнемогший от трудов, Виссарион молча внимал своим друзьям, наслаждаясь самим присутствием среди них в этой квартире.
Услышав последнее заявление, он прищурил глаза. Это не сулило продолжения самодовольного философствования, на которое был настроен Мишель. Белинский был резок, это давно ощутили все, кого коснулись его критики.
— Иными словами, — усмехнулся он, — желаешь ты сказать, что, мол, кто же мне скажет правду, если не друг? И говоришь о порядочности?
— Отвечаю — да.
— Изволь. Тогда скажи-ка, друг-Мишель, что думает твое божественное «Я» о необходимости быть честным человеком, которая для тебя более нежели для кого-нибудь насущна?
— Фактецов, фактецов, Висяша.
— Недалеко ходить. Ты, Мишель, составил себе громкую известность попрошайки и человека, живущего за чужой счет. Ты в долгах по уши. Левашовы отказали тебе в последний раз вовсе не потому, что у них нет, но потому, что ты берешь без отдачи.
— Я им отдам. Этот долг мучает меня, ты прав. Сколько опрометчивых поступков сделано за короткое время! — Бакунин запустил пальцы в волосы и закатил глаза.
— Так. Ты умеешь признавать свои недостатки. Это хорошо. А известно ли тебе, что матушка Ефремова, у которого ты взял шестьсот рублей, готова употребить твои записки к нему как векселя?
— И ему отдам.
— А Каткову?
— Всем отдам. Мне должны за перевод «Всеобщей истории».
— Вот и приехали. Ты взялся для графа переводить книгу, назначаемую для учебных заведений, следовательно, требующую труда честного, добросовестного, отчетливого. Так ли?
— Ну, так. А что?
— А то, что как я посмотрю, такого рода труды — не твое дело. Ты раздал книгу друзьям, сестрам, братьям, Аксакову, Каткову, из чего должен выйти перевод самый разнохарактерный, потому самый бесхарактерный. Долги твои растут, как снежный ком. Скажи, неужели это не мешает твоей внутренней жизни?
— Нисколько. Душа моя спокойна и сильна.