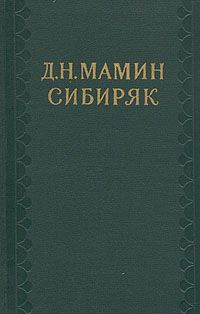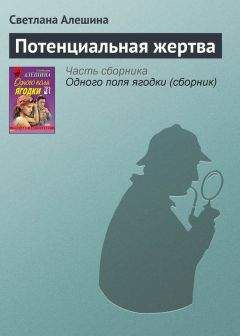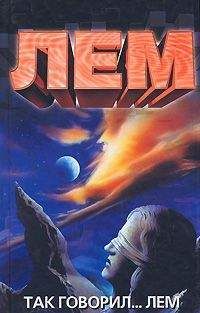Селеста Альбаре - Господин Пруст
— Сударь, почему вы не едите? Разве можно выносить такой режим?
— Рассудите сами, Селеста: после хорошего обеда тяжелеешь, и голова уже не свободна, понимаете? А мне нужна ясная голова.
Однажды я рассказала ему:
— Когда моя мать ходила в школу, там была сестра-послушница, которая все время боялась, что дети слишком много едят, и приговаривала: «Хватит, дети, хватит, не ешьте столько, и у вас будет ясная голова и крепкое здоровье». Так и вы, сударь, как и эта послушница!
Он много смеялся моему рассказу, хотя и сам прекрасно знал, что так оно и есть на самом деле.
И, возможно, обе стороны соединялись — требования творчества и вкус к прошлому. Борясь с потоком времени, чтобы завершить свой труд как можно быстрее, он уже предчувствовал конец стольких вещей, некогда любимых, а теперь, когда за ним гналась по пятам смерть, ставших лишь тенями воспоминаний.
VIII
ЕГО ЧРЕЗМЕРНАЯ СТЫДЛИВОСТЬ
То совершенство, к которому он всегда стремился, относилось и к его манере держать себя, в том числе к одежде и другим привычкам. Здесь тоже проявлялась его привязанность к прошлому. В последние годы кое-кто, особенно из узнавших его уже знаменитым, говорили, что он похож на человека из прошлого века. После войны мода сильно переменилась, а он носил платье старого покроя, с этими высокими и твердыми воротничками. Но только глупцы могли называть его смешным, не понимая той естественной элегантности, благодаря которой все ему шло, и все было на своем месте. Я не сомневаюсь, что для большинства знавших его он до конца так и оставался тем настоящим аристократом, каким я увидела его в ту первую встречу.
И прежде всего эта его манера держаться. Как я уже говорила, он был скорее высокого роста, худощав и при этом имел обыкновение как бы откидываться назад, что еще больше удлиняло его. Это вообще свойственно астматикам, они словно бы стараются освободить свое дыхание.
В нем не было ни малейшей скованности. Даже удивительно, что человек, который половину жизни проводил лежа, обладал такой гибкостью и грациозностью движений и жестов. Даже в постели, слегка склонив голову и подперев рукой щеку, он поражал впервые приходивших к нему своим шармом. А для меня это было непрерывное наслаждение, никогда не надоедавшее.
Помню, кажется, в 1919 году, уже после войны, г-н Пруст согласился принять г-на и г-жу Сидней Шифф, его больших почитателей из Англии, и снял для этого отдельный кабинет в «Рице». Потом он рассказывал, что, когда вошел одетый в смокинг, г-жа Шифф едва сдержала возглас восхищения.
— И, знаете, что она сказала мне?.. «Я думала увидеть седого старца, а передо мной стоял молодой человек!»
Тогда ему было уже сорок восемь лет.
Стоит сказать, что еще одной поразительной чертой этого великого больного был цвет его кожи. Конечно, в постели он иногда походил на мертвеца. Но если воодушевлялся, или перед гостями, или придя домой, пусть даже утомленным, у него всегда был великолепный цвет лица, еще более оттенявшийся черными волосами, черными усами и блестящими черными глазами, не говоря уже о зубах невероятной белизны, которую он сохранил, несмотря на болезнь и почти полное отсутствие питания. Я не помню у него зубной боли и ни одного испорченного зуба. Самое забавное, что прямо над нами, на бульваре Османн, квартировал великолепный дантист, американец г-н Вильяме, у которого лечилась одна из близких приятельниц г-на Пруста, г-жа Строе. Пару раз, выйдя от него, она заходила навестить «дорогого Марселя» и настаивала, чтобы он показался этому американцу: «Пользуйтесь случаем, Марсель, даже если у вас ничего не болит. Он ведь прекрасный дантист! Лучший во всем Париже!» Хоть он и обещал ей, но, конечно, никуда не ходил.
В рассказах о его кокетстве доходили и до париков, и до того, что он подкрашивал себе глаза и лицо. Но темнота под глазами была у него от бессонной работы и болезни, а с кожей он вообще ничего не делал, ее красота и тонкость были совершенно естественны, в точности как на портрете Жака Эмиля Бланша. Для его черных усов и волос не требовалась никакая краска.
Форму усов он менял один раз, когда сбрил бороду, перед тем как я познакомилась с ним. Он носил их довольно длинными, но потом, уже после войны, единственный раз уступив моде (то ли по совету парикмахера, то ли его уговорили друзья из « Рица»), подстриг их под Шарло, но при этом спрашивал у меня:
— Представляете, Селеста? Мне советуют носить усы, как у Шарло, и говорят еще: «Ведь вы так молодо выглядите».
Сделав это, он не переставал сомневаться:
— Дорогая Селеста, вам не кажется, что у меня смешной вид с этой щеткой под носом?
Совсем нет, сударь, напротив, это и вправду молодит вас.
Он радовался, да я и не лгала — такие усы действительно делали его моложе.
Нельзя сказать, чтобы у него было кокетство в костюме, тем более при таком простом и строгом гардеробе. И он почти не обновлял его, во всяком случае на моей памяти. Впрочем, для этого и не было особой надобности: лежа в постели, он ничего не изнашивал. Кроме кабурского вигоневого пальто, оставалось еще только то, которое лежало на постели для внутреннего употребления, да еще норковая шуба и черное пальто. Из костюмов при мне было сшито два или три, вот и все.
Он всегда одевался к венецианскому карнавалу на бульварах, и для этого в квартире делалась примерка. Ему очень нравился один пожилой английский закройщик, которого я прекрасно помню, — два или три раза я должна была сказать ему, когда он приходил, что г-н Пруст никак не может принять его, то ли из-за астмы, то ли ему был нужен отдых после работы. Этот добряк уже привык к такому приему и, ответив со своим английским акцентом: «Когда г-ну Прусту будет удобно», — уходил.
Кроме фрака и смокинга, имелись еще несколько визиток, которые он носил с брюками в полоску. Иногда он надевал черный пиджак. Все, конечно, сшитое по мерке.
У него была целая коллекция жилетов, дорогих, но однотонных. Помню, что он заказал себе особенно красивый жилет из красного шелка на белой шелковой подкладке. Он примерил его и показал мне, поворачиваясь перед зеркалом. Потом сказал:
— Нет, конечно же, нет. Это хорошо для такого денди, как Вони де Кастеллян. А я не хочу быть посмешищем.
Жилет был отправлен в шкаф, и он никогда его не надевал.
То же самое и с игрой в галстуки. Кроме бабочек (черных для смокинга и белых для фрака), все остальные были строго сдержанные и только один яркий, который надевался очень редко. Одно время он носил банты от «Либерти», но они ему надоели, я видела их только в коробке.