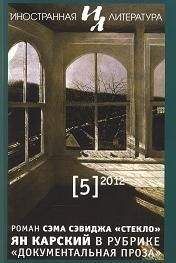Александр Стесин - “Вернись и возьми”
Рабочий день в лепрозории начинался с обхода - не пациентов, а медицинского персонала во главе с угрюмцем исполинского роста по имени Доктор Брюс-Таго. Этикет общения в закрытом учреждении требовал поздороваться с каждым из членов коллектива, от лаборанта до специалиста по изготовлению протезов, и уж затем предстать перед главным, дабы испросить у него разрешение приступить к работе. Гигант Брюс-Таго мрачно кивал или просто отворачивался в знак согласия. Сама работа была вполне рутинной: проверять дозировку дапсона, следить за нормальным заживлением раны после ампутации. Проводить осмотр и назначать лечение, не выходя из оцепенения, которое овладевало мной тотчас по прибытии в Анкафул. Больные, одетые в униформу болотного цвета (тот же покрой, что и у арестантской одежды), таращились из-под лимонного тюля противомоскитных сеток. Львиные лица, скрюченные конечности, нескончаемая тишина. Надо поспешить, чтобы управиться с работой до темноты. Выйти на свет и звук.
Звук доносился из соседней деревни и принадлежал ударному инструменту, точнее целой группе ударных инструментов. Первой его услышала Абена, сопровождавшая нас с Кваме во время поездок в Анкафул.
- Хэ! - возмутилась Абена. - Скоро Бакачуэ, а они в барабаны бьют!
- Бакачуэ?
- Праздник такой. У нас за месяц до Бакачуэ вводят запрет на стук. Нельзя бить в барабаны и толочь фуфу после шести вечера. А эти, вишь, расшумелись, как будто не знают. Хэ!
- А что это за ритм? Асафо?
- Не, это атумпан. Говорящие барабаны.
- А о чем они говорят, ты не знаешь?
- Не знаю. Я их язык плохо понимаю.
О говорящих барабанах, предназначенных для коммуникации на больших расстояниях, я знал из научно-популярной литературы, но не подозревал, что это искусство практикуется до сих пор. Барабанщик использует сложную систему ритмических фраз, имитируя интонации и фонемы человеческой речи. Существует даже канон стихотворных текстов, сочиненных специально для атумпана.
Выйдя на звук, мы оказались свидетелями настоящего театрального действа. Ряженые танцоры, перкуссионный ансамбль, говорящий барабан, повествующий о событиях из истории племени. Но самым удивительным был состав участников: среди актеров, как и среди зрителей, были только дети. Более того, этот самодеятельный театр автономной республики ШКИД не только не предполагал участия взрослых, но и исключал саму возможность их присутствия: впервые за все время моего пребывания в Гане, на обрунине обратили ни малейшего внимания.
В девяносто пятом году мы жили на окраине Олбани, в двух шагах от богемной кофейни “Кафе Долче”, куда я отправлялся чуть ли не каждый вечер - разумеется, с целью писать стихи. Стены кофейни были украшены причудливыми геометрическими узорами; в них всегда можно было уткнуться невидящим взглядом, напуская на себя творческую отрешенность. Пялиться в стенку в поисках повода, часами разглядывать зигзаги и перекрестья. Жизнь - бессюжетна, это да, но человеку, желающему убедить себя в обратном, легко найти подтверждение в мелочах. И вот случайность перестает быть случайной, потому что через пятнадцать лет странствующая медсестра НанаНкетсия будет втолковывать мне смысл этих пиктограмм, которые окажутся символами “адинкра”. И настенные декорации из далекого “Кафе Долче” всплывут в памяти и выйдут на первый план, как будто в них и вправду кроются ответы на все вопросы, включая те, которые так и не удосужился сформулировать.
...Пиктограмма в форме квадрата, заполненного ромбовидными клетками в семь рядов, называется “Фиеммосеа” (“Щебень двора”): “Если твои стопы в крови от щебня, это щебень с твоего двора”.
Пиктограмма в форме двух якорей, слитых воедино. Это “Акоконайн” (“Куриная лапка”): “Когда курица топчет свой выводок, она не желает им смерти”.
Четыре раскрытых глазка “Матэмасиэ”: “Что услышал, то сохранил”.
Узор из концентрических ромбов внутри квадрата “Ани брэа”: “Как глаза ни красны, огню в них не вспыхнуть”.
Панцирь жука, обрамленный двумя лепестками (“Одоньирафиэкуайн”): “Любовь помнит дорогу домой”.
Птица, пытающаяся дотянуться клювом до собственного хвоста; в клюве у птицы яйцо (“Санкофа а йенчи”): “Если забудешь, вернись и возьми, это не стыдно”.
Два зерна фасоли, повернутые друг к другу (“Ньямебриби во соро”): “Господь, если тайну хранишь в небесах, дай мне сил дотянуться”.
7
Ночью я почувствовал все, что положено чувствовать в начале (горечь во рту, покалывание в конечностях), но не сразу понял, в чем дело. До этого мне везло и, уверовав в чудодейственность профилактики, я счел себя вне опасности, несмотря на то, что весь предыдущий месяц “болотная лихорадка” косила жителей Эльмины почти поголовно: сезон дождей был в разгаре. С усилием проглоченный комок спускался по пищеводу, распухая загрудинной тяжестью, пока не превратился в сгусток боли в области солнечного сплетенья, как при ударе под дых. Я приподнялся до полусидячего положения - боль начала спадать. Ньяме адом, обойдется.
К утру малярия уже вовсю хозяйничала в организме. Меня прошибал пот и знобило. Горячечные лилипуты, вооруженные ударными инструментами, трудились на костоломной ниве, бурили череп. Но все это было ничто по сравнению с уютной всепоглощающей летаргией. Любое движение казалось непосильным, а главное, совершенно ненужным трудом. Будь что будет, пусть стучат молоточки, ползут мурашки и красные кровяные тельца лопаются, как мыльные пузыри. Тело чувствует боль, но сунсумотправляется спать, идет, куда ему нужно, пока кра наблюдает издали, ибо не вправе вмешиваться, и у меня не хватит воли, чтобы открыть глаза и дотянуться до сумки, в которой лежат припасенные впрок таблетки.
Я буду спать, изредка выныривая на звук барабана “ммара! ммара!”, но вскоре этот саундтрек сменится чем-нибудь из хип-лайф, хит-параднымиДэддиЛумба, Ар-Ту-Бис, или ОфориОмпонса, напоминающими о чоп-баре возле ЭльминаДжанкшн, где мы заседали с Кваме и Абеной, потягивая пиво “Star” под сиреневое мигание цветомузыки.
Манврэ фри нэмфенсэрэтумм,
Анаджосунсумматэнтэйн,
Тэсэнкаеанкасакумм
Канеа а эвоабонтэйн...
О заправке “Shell”, где отоваривались водой и телефонными картами, и заправщик Баду всякий раз говорил, что запишется ко мне на прием, не потому что был болен, а просто так - чтобы доктору было приятно. О девушках из Такоради со смешными именами Love и Charity, учившихся в университете Кейп-Коста по специальности “поставщик продуктов питания”, тайком расспрашивавших меня про семейное положение Кваме и посылавших ему записки с намеком на матримониальные планы. О другом чоп-баре, где справляли день рождения Абены, а потом гуляли по ночному Кейп-Косту с ней и ее подругой Пэт, покупали келевеле[60] у уличных торговцев, и навстречу нам шли молодые люди, тоже парами или кучками и, сливаясь с этим народным гуляньем, я испытывал чуть ли не подростковый трепет, как в пятом классе, когда дружба с сердцеедом Костиком обернулась возможностью “гулять с девчонками”, с Юлькой Жарковской и Ксюшей Султановой, салютуя автомату с газировкой, бочке с квасом и остальной атрибутике ностальгии-точка-ру. Как давно это было? И на каком языке? С некоторых пор друзья и соседи по московскому детству в моих снах оказываются англоязычными, а люди из нынешней жизни - наоборот. И тем и другим не хватает слов, и, погружаясь в безъязычье, память призывает на помощь мотив, музыкальную паузу, бред моментальной рифмовки.