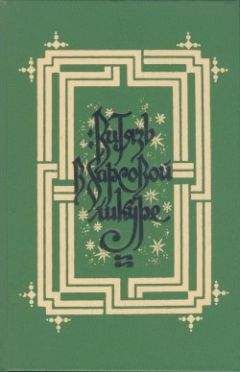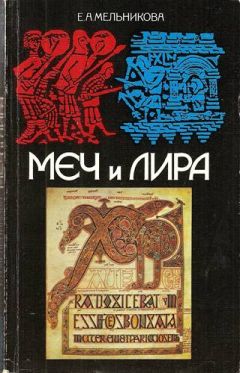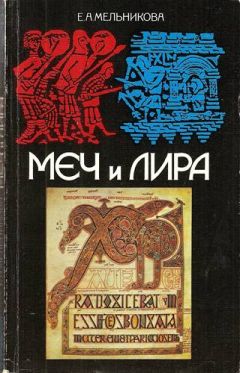Алексей Смирнов - Козьма Прутков
Успешно завершив достойнейшее дело продолжения рода, Жемчужников-отец вернулся на службу отечеству. Он был полковником корпуса жандармов, генеральствовал в Польше, губернаторствовал в Костроме. После смерти жены хотел немедленно выйти в отставку, чтобы заботиться о детях. Однако царь отставку не принял, а детей распорядился определить по казенным учебным заведениям.
Старший сын Алексей Михайлович Жемчужников на склоне лет оставит нам бесценный документ — свой «Автобиографический очерк», к сожалению, весьма отрывочный и до обидного лапидарный. Тем не менее мы не раз будем обращаться к нему как к свидетельству участника и очевидца всех описываемых здесь событий. Но на первых порах ограничимся лишь той частью очерка, которая относится к ранним годам Алексея, а именно: от рождения до 1850 года — времени театрального дебюта Козьмы Пруткова, то есть к жизни «до Пруткова».
«Я родился в феврале 1821 года. Воспитывался до 14-летнего возраста дома. Потом поступил, в 1835 году, в Первую санкт-петербургскую гимназию, из которой вскоре вышел, чтобы держать экзамен в только что основанное Императорское Училище правоведения, куда и был принят в числе, кажется, сорока первоначальных его воспитанников, 5 декабря того же 1835 года. Окончив курс, я вышел из училища в 1841 году с чином 9-го класса. Наш выпуск был второй с основания училища. Я поступил на службу в Сенат. Но в следующем же году, к великому моему удовольствию, был уволен от канцелярских работ и прикомандирован для занятий к ревизовавшему Орловскую и Калужскую губернии почтенному сенатору Дмитрию Никитичу Бегичеву, автору романа „Семейство Холмских“. Ревизия продолжалась года два. В 1844 году судьба помогла мне снова избавиться от Сената. Получив отпуск, я обратился к занятиям по другой сенаторской ревизии. В то время мой отец ревизовал таганрогское градоначальство и я находился при нем в продолжение восьми месяцев. Занятия при ревизовавших сенаторах были для меня весьма полезны. Они дали мне возможность еще в юности ознакомиться с жизнию провинции и находиться в сношениях со всеми общественными слоями. В мае 1846 года я получил опять отпуск с разрешением поехать за границу, откуда вернулся на сенатскую службу через восемь месяцев. Летом 1847 года я перешел из Сената на должность помощника юрисконсульта, а в 1849 году поступил на службу в государственную канцелярию…»[80]
К годам своей юности Алексей Жемчужников взыскателен и даже порой беспощаден: «В первом периоде моей жизни я убил много времени даром. Жизнь чувственная часто преобладала совершенно над духовною. Не столько служба, сколько светская жизнь нередко засасывала меня как болото.
И тем не менее появлялись, конечно, и тогда более или менее продолжительные светлые промежутки. Они-то и подготовили возможность совершившейся со мною после перемены. Еще на училищной скамье я сделал запас возвышенных идеалов и честных стремлений. Дух училища в мое время был превосходный. Этим духом мы были обязаны не столько нашим профессорам, между которыми были очень почтенные люди, но Грановских не было, сколько самому основателю и попечителю нашего училища — принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому. Он, своим личным характером и обращением с нами и нашими наставниками, способствовал к развитию в нас чувства собственного достоинства, человечности и уважения к справедливости, законности, знаниям и просвещению. <…>
Состав моих товарищей был также очень хорош. Я был близок почти со всеми воспитанниками трех первых выпусков. Мы были воодушевлены самыми лучшими намерениями. Как добрые начала, вынесенные из училища, так и доходившие до меня потом веяния от людей сороковых годов не дозволяли мне бесповоротно увлечься шумною, блестящею, но пустою жизнью. В первый период моей жизни я, может быть, многое проглядел из того, что происходило вокруг меня; но то, что до меня доходило, оценивалось мною по достоинству. Я продолжал мерить людей и дела мерою сохранившихся в полной чистоте и неприкосновенности моих идеалов. Врожденная отзывчивость не дала душе моей заглохнуть. Я был всегда чужд равнодушию, и это было большое для меня счастие. На своем веку я подмечал не раз, как индифферентность вкрадывается в человека большею частью под личиною „благоразумия и практичности в воззрениях на жизнь“, а потом, мало-помалу, превращается в нравственную гангрену, разрушающую одно за другим все лучшие свойства не только сердца, но и ума»[81].
Шестилетнее пребывание в училище завершилось. И настала совсем иная пора.
«Самым тяжелым и мрачным временем моей жизни я считаю вступление мое на службу в 4-й департамент Сената после выпуска из училища. Я помню, что первое порученное мне занятие состояло в исправлении старого алфавитного указателя, в котором наибольшая часть дел, чуть ли не целый том, значилась под буквою О: о наследстве, о спорной земле, о духовном завещании и т. д. до бесконечности. Помню также, что я около того же времени написал на черновом листе какой-то деловой бумаги стихотворение (шалун! — А. С.), в котором призывал к себе на помощь терпение ослиное, так как человеческого было недостаточно»[82].
С юных лет неравнодушный к стихотворству, старший из братьев овладел перышком бойким, не лез в карман за старыми, добрыми рифмами, — все они были у него под рукой, — и, обладая столь необходимой поэту склонностью к рефлексиям, стал находить удовольствие в сочинительстве. Однако «обстоятельства жизни отражались на моих литературных занятиях. Я начал писать еще в училище, преимущественно стихами, и писал немало[83]. Потом скучная служба и рассеянная жизнь заставили меня замолкнуть»[84].
Бывают люди-деятели и люди-созерцатели. Им нелегко договориться. Они слишком разные. Если деятель преобразует природу, то созерцатель хранит ее от преобразований. Если деятель реформирует жизнь, то созерцатель всегда и не без оснований найдет последствия реформ ужасными и — потому — сами реформы недопустимыми. Деятель устремлен в будущее, рисуя его самыми радужными красками. Созерцатель устремлен в прошлое, тоже нередко приукрашенное. Деятель лишен рефлексий. Созерцатель весь в них. Деятель — прагматик, созерцатель — романтик. Для деятеля ключевые слова: целесообразность, выгода, комфорт. Для созерцателя ключевые слова: непреднамеренность, этичность, красота. Потому деятелю безразличны все эти «цирлихи-манирлихи» интеллигентского обхождения; ему главное — результат. Потому созерцателю глубоко отвратителен результат, добытый «любыми средствами». Здесь деятель и созерцатель — непримиримые антагонисты. Столь разные психологические типы и в жизни реализуются на ее противоположных полюсах. Лихорадочный деятель уходит в политику. Благоговейный созерцатель находит себя в поэзии. Отсюда совершенно разный дух собрания ревнивых политиков и дружеской компании поэтов.