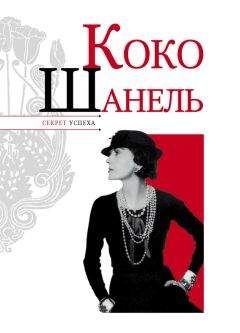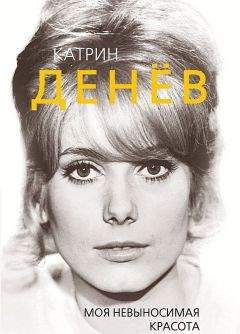Вальтер Беньямин - Франц Кафка
17. Беньямин – Шолему
Сковбостранд пер Свендборг, 20.07.1934
Вчера наконец-то пришло от тебя долгожданное подтверждение моего «Кафки». Оно для меня необычайно ценно – прежде всего благодаря приложенному стихотворению. Уже много лет я не воспринимал ограничения, наложенные на нас сейчас необходимостью письменного общения, с таким недовольством, как в этот раз. Я уверен, что ты это недовольство понимаешь и не ждешь от меня, чтобы я – при невозможности экспериментального и многократного формулирования мысли, доступного лишь в разговоре, – сказал тебе об этом стихотворении что-то окончательное и серьезное. Относительно просто обстоит только дело с «теологической интерпретацией». Я не только ввиду этого стихотворения признаю теологическую возможность как таковую практически неизбежной, но и утверждаю, что и моя работа имеет свою – правда, затененную – теологическую сторону. А ополчился я против невыносимого теологически-профессионального позерства, которое, чего ты не станешь оспаривать, по всему фронту заполонило все прежние интерпретации Кафки и надменно благодетельствует нас самодовольством своих откровений.
Чтобы по крайней мере хоть немного отчетливей обозначить мое отношение к твоему стихотворению, которое по языковой мощи ничуть не уступает столь высокочтимому мной Angelus Novus[162], назову тебе строфы, которые я принимаю безоговорочно. Это строфы с 7-й по 13-ю. До них некоторые тоже. Последняя же ставит проблему: как – в духе Кафки – помыслить себе проекцию Страшного суда в процессе мирового развития. Не превращает ли подобная проекция судью… в обвиняемого? Расследование – в наказание? Служит ли все это возвышению закона или, наоборот, закапыванию его в землю? На вопросы эти, я думаю, у Кафки не было ответов. Однако форма, в которой эти вопросы ему являются и которую я пытаюсь выявить своими исследованиями о роли сценического и жестикуляционного в его книгах, содержит в себе некое указание на такое состояние мира, в котором вопросам этим нет места, потому что ответы не столько именно отвечают на вопросы, сколько снимают их. Структуру подобных вот – снимающих ответы – вопросов Кафка искал и иногда, словно налету или во сне, улавливал. Во всяком случае, сказать, что он их находил, нельзя. Вот почему правильный взгляд на его творчество, как мне кажется, связан среди прочего и с осознанием того простого факта, что этот человек потерпел неудачу. «Этот путь немыслим в целом, / даже часть его не счесть». Но когда ты пишешь: «Лишь Ничто – Твое даренье / веку, что Тебя забыл», – то я в духе своей попытки истолкования могу лишь к этому присоединиться, добавив: я пытался показать, что Кафка силится нащупать спасение даже не в самом этом «Ничто», а, если так можно выразиться, в его изнанке, в подкладке его. Отсюда само собой следует, что любая форма преодоления Ничто, как понимают его теологические толкователи из окружения Брода, была бы для Кафки ужасом.
По-моему, я уже писал тебе, что работа эта обещает еще какое-то время оставаться для меня актуальной <…>. А рукопись, что находится у тебя в руках, и сейчас уже во многих важных местах устарела <…>.
Что же до происхождения истории, рассказываемой в «Кафке», то она останется тайной, которую я смог бы открыть тебе лишь при личной встрече, посулив при этом рассказать еще много других, столь же прекрасных.
18. Беньямин – Шолему
11.08.1934
В связи с тем, что я сейчас навожу – надеюсь, что действительно последний – глянец на моего «Кафку»[163], хочу, пользуясь случаем, эксплицитно вернуться к некоторым из твоих возражений, присовокупив к ним и несколько вопросов, касающихся твоей точки зрения.
Я сказал «эксплицитно», поскольку имплицитно это в некоторых отношениях уже сделано в новом варианте текста. Изменения там значительные <…>.
Здесь же лишь несколько главных пунктов:
1) Разногласия между моей работой и твоим стихотворением я бы попытался сформулировать так: ты исходишь из «ничтожества откровения», из мессианской перспективы предопределенного хода вещей. Я исхожу из мельчайшей вздорной надежды, а также из тварей, которым, с одной стороны, эта надежда адресуется, и в которых, с другой стороны, эта вздорность надежды отражена.
2) Когда я называю одной из самых сильных реакций Кафки стыд, это нисколько не противоречит остальным аргументам моей интерпретации. Скорее этот первобытный мир – тайное настоящее Кафки – оказывается как бы историко-философским указателем, который выделяет эту реакцию стыда из сферы личных чувств. В том-то все и дело, что дело торы – если держаться кафковской версии – порушено.
3) Сюда же примыкает вопрос о писании. Утеряно ли это писание учениками или они просто не в силах его расшифровать – ответ на этот вопрос связан все с тем же самым, поскольку зашифрованное писание без приданного ему ключа уже не писание вовсе, а просто жизнь. Жизнь, как она идет в деревне под замковой горой. В попытке превратить жизнь в писание вижу я смысл тех «поворотов», к которым тяготеют многочисленные притчи Кафки, из коих я выхватил «Соседнюю деревню» и «Верхом на ведре». Существование Санчо Пансы можно считать образцом, потому что оно, по сути, сводится к перечитыванию собственной, пусть и шутовской, жизни и жизни Дон Кихота.
4) То, что ученики – «которые писание утеряли» – не принадлежат к гетерическому миру, у меня подчеркнуто в самом начале, когда я их вместе с помощниками приравниваю к тем существам, которым, по слову Кафки, дано «бесконечно много надежды».
5) То, что я не отрицаю аспектов откровения в творчестве Кафки, вытекает хотя бы из того, что я – объявляя это откровение «искаженным» – признаю его мессианскую сущность. Мессианская категория у Кафки – это «поворот» или «изучение». Ты совершенно правильно предполагаешь, что я вовсе не намерен преградить путь теологическим интерпретациям вообще (я и сам такую исповедую), но вот самонадеянным и скороспелым интерпретациям из Праги – это точно. Аргументацию, опирающуюся на повадки палачей, я отмел как негодную (еще даже до получения твоих соображений).
6) Постоянное кружение Кафки вокруг Закона я считаю одной из мертвых точек его творчества, чем хочу всего лишь сказать, что – исходя именно из этого творчества – интерпретацию с этой мертвой точки невозможно сдвинуть. Но пускаться сейчас в отдельный разговор об этом понятии я и вправду не хочу.
7) Прошу тебя разъяснить твою фигуру речи, согласно которой Кафка изображает «мир откровения, правда, с такой перспективой, которая сводит это откровение к его ничто».