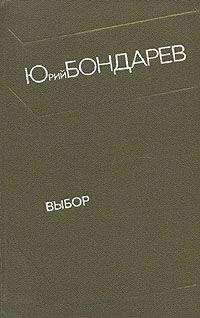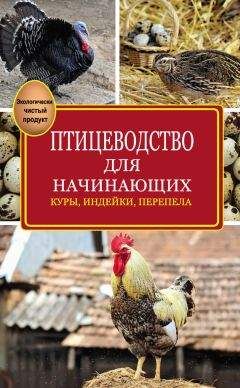Ю Бондарев - Выбор
Нигде в городе не светилось ни одного огня. Мешки с песком баррикадами лежали под окнами первых этажей. Едва узнаваемые, погруженные в холодную темноту улицы, насквозь продутые октябрьским ветром, пахли инеем, недалеким снегом, и везде над головой туго свистело в антеннах на крышах, за которыми в черном небе, загораживая звезды, тенями плавали в ледяных высотах рыбообразные тела аэростатов воздушного заграждения.
В этом гуле проводов, свисте ветреной ночи выделялись другие звуки какого-то спешного движения на мостовой, похожего и вместе непохожего на обычное перемещение войск. Грузовики без солдат, заваленные ящиками и мешками, легковые машины, хозяйственные повозки то и дело проезжали мимо, чернеющей массой скапливались на площадях, откуда доносились приглушенные команды регулировщиков, фырканье лошадей, ругань шоферов и повозочных. Постепенно сгущенная масса колонны рассасывалась, поворачивала, вытягивалась на Садовую, и вновь проносились, встревоженно сигналили начальственные "эмки", синея маскировочными подфарниками, объезжая лошадей и повозки, которые, как ломовые, гремели колесами по асфальту, по трамвайным рельсам.
Здесь же, на соединении улиц, перед площадями, оставив лишь узкий разрыв для движения, торчали ребрами "ежи", наклонно висели врытые в землю толстые пики рельсов, эти противотанковые сооружения, воинственно и уродливо преобразившие город, и в этом изменении было что-то новое, жуткое, как и в запахе гари, которую они впервые почувствовали там, под Можайском, когда ветер приносил пепел горящих деревень. Но тут, в Москве, не было видно тлеющих пепелищ пожаров, а запах пепла в крепкой свежести воздуха накатывал волнами, и иногда чудилось, что в глубине дворов всюду жгли бумагу.
После того как их несколько раз задерживали патрули, Владимир предложил по дороге к Зацепе нигде не останавливаться, мигом вбегать под арки ворот, заходить в подъезды, чуть только впереди завиднеются люди, потому что издали, не разберешь, патрули или не патрули. Однако в знакомых переулках вокруг Зацепы не встретили ни единого прохожего, не проблеснуло ни огонька в окнах, ни одной машины не проехало по мостовой. Все подъезды были закрыты, ворота заперты на засовы; ветер шумел в дворовых липах, темные тени качались, скреблись о заборы, ворохи листьев с жестяным корябаньем волокло по асфальту, сухим шорохом несло по ногам, собирало у подворотен шевелящимися кучами. Здесь, в переулках, обдавало первым октябрьским морозцем, винным подвальным запахом, а меж качающихся деревьев в неоглядной пустыне неба красным и белым лихорадочным огнем горели две крупные звезды.
- Марс и Юпитер, - сказал тогда бегло Илья. - Вот сверкают, а?
- Марс - бог войны, кажется, - ответил Владимир. - Помнишь?
- А, к черту, помнить всякую чепуху из истории Древнего Рима! Кому это нужно? А может, это не Марс и не Юпитер.
Но они еще хорошо помнили недавнюю Лужниковскую, веселую, солнечную, зеленую, и на углу оба не выдержали и рванулись к воротам своего двора, а когда, запыхавшись, остановились около калитки, откуда был виден их двухэтажный дом, загороженный липами, в эту минуту у пожарного гаража на другой стороне улицы, где обычно стояла будка дежурного, грозно всполошился сиплый оклик: "Кто там? Стой! Стрелять буду!" - и враждебно заскрежетал затвор винтовки.
- Свои, свои, если не шутишь! - отозвался услышанной на окопах солдатской фразой Владимир, подхваченный бешеной радостью оттого, что были они дома, наконец.
- Хрен с маслом в базарный день! - захохотал Илья. - Стрелять-то умеешь? Чего тюленем голосишь?
И они кинулись в калитку, хохоча, толкая друг друга, но сразу же во дворе, по-осеннему заполненном текучим шумом лип, плотная тьма, расчерченная бумажными крестами окон, окружила их, и они замолкли, осматриваясь по дороге к крыльцу, угольно-черная крыша которого заслоняла свет двух звезд над двором.
Тамбур был заперт. Никто не открывал им, когда позвонили двойными, тройными звонками, никто не открыл и после того, как минут десять упрямо колотили кулаками, упорно дергали шатавшуюся дверь. Во всем доме, вероятно, никого не было. Тогда, выругавшись, Илья спрыгнул с крыльца, на ощупь подошел к липе, росшей вплотную к стене дома, подтянулся на оголенной ветви, точно на турнике, и начал забираться вверх, что не раз делал в детстве, к окнам своей комнаты на втором этаже. Владимир стоял внизу, видел, как он долез до второго этажа и там, повиснув на ветках, постучал в стекло так решительно и громко, что эхо выстрелами толкнулось в глубине двора. Затем послышался сверху его голос: "Ма-ама, да что ж ты? Оглохли все?" - и он скатился по стволу дерева на землю, раздосадованно говоря:
- Сейчас мать откроет. Не ясно: чего они, как мыши в норы, попрятались?
Дверь открыла Раиса Михайловна, наспех одетая в халат, выговорила слабым вскриком: "Ильюша, Ильюша!.." - и отступила на шаг, нетвердо держа керосиновую лампу перед грудью, и на ее лице, еще красивом, чернобровом, выражение страха сменилось выражением страдальческой радости: "Как хорошо, что это вы, мальчики, как хорошо!.." А Илья, снисходительно чмокнув мать в щеку, взял у нее лампу, быстро пошел вверх по лестнице, крикнул на ходу:
- Покеда, Володька! Завтра с утра заходи!
- Володя, подожди минуточку, - задержала Раиса Михайловна заторопившимся голосом. - Подожди, пожалуйста, подожди. Я тебе должна сказать... Твои уехали в Свердловск. Здесь была эвакуация. Всех с детьми звакуировали. Кого на Урал, кого в Среднюю Азию. Они уехали месяц назад. Вместе с заводом. У меня письмо, и записка для тебя, и ключ... Но ты у нас пока... у нас побудь...
- Тем лучше! - воскликнул Илья обрадованно. - Пошли к нам, веселее будет! А пожрать чего-нибудь найдем. Верно, мать?
- Дайте мне ключ, - попросил Владимир. - Я сначала к себе...
То, что мать и отец вместе с четырехлетним братом месяц назад уехали в Свердловск, эвакуировались с заводом (где отец работал инженером), не дождавшись его, и то, что оставленный ключ словно бы доказывал их равнодушное спокойствие, было сейчас обидно ему.
Он открыл дверь оставленным ключом, нащупал в первой комнате выключатель, и свет загорелся немощно, обессиленным накалом.
В смежной комнате так же хилый оранжевый свет абажура повис в тесной полутьме, тускло проявляя знакомую мебель, завешенные маскировочной бумагой окна; книжный шкаф отливал возле письменного стола лиловыми бликами стекол; скрипнули половицы, запахло маминой пудрой, к этому родственному запаху примешивался невнятный ветерок холодноватой пыли, какие-то мышиные шорохи в опустелом доме - и Владимиру стало не по себе.
Там, под Можайском, когда присоединились к красноармейской группе, бродили по лесам, отрезанные от Москвы, он не так воображал возвращение домой, представляя вечер и уютный час ужина, эти комнаты в теплом электрическом сиянии, родные, любящие его лица за столом и себя, рассказывающего о первой бомбежке, о немецких листовках, разбросанных ночью, об окружении... Но дома его никто не ждал - и сохранившийся запах маминой одежды в шкафу, охлаждаемый мертвенным ветерком заброшенности, ознобно пронзил его сквознячком. Может быть, все это было началом новой, давно ожидаемой жизни, что манила опасностью куда-то в неизвестное?