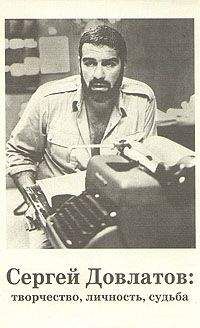Митрополит Евлогий Георгиевский - Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т.Манухиной
Было еще одно важное обстоятельство, побуждавшее меня к этой поездке. Нашего ректора архимандрита Антония переводили на ту же должность в Казанскую Духовную Академию. Это невольное перемещение было результатом нерасположения к архимандриту Антонию нового Московского митрополита Сергия (Ляпидевского). Митрополит Сергий был человеком старой Филаретовской школы, с ее сухой и суровой дисциплиной, и, естественно, ему был не по душе новый дух в педагогике архимандрита Антония; невзлюбил он и нового "антониевского" монашества, которое он презрительно называл "антониевской сворой". После некоторых столкновений в официальных делах состоялось, по представлению митрополита Сергия, перемещение архимандрита Антония из Московской Духовной Академии в окраинную Казанскую, что было, конечно, его служебным понижением. Архимандрит Антоний принял этот перевод довольно спокойно, по крайней мере с внешней стороны. Мне хотелось повидать его, чтобы выразить ему сочувствие.
Он встретил меня со свойственным ему радушием и любовью.
Нас съехалось человек пять-шесть молодых монахов. Мы участвовали в прощальном богослужении нашего бывшего ректора, присутствовали на прощальном обеде, который давала ему академическая корпорация, говорили застольные речи. Наши профессора впервые увидали меня в монашеском одеянии; они любезно беседовали со мною, может быть, не без оттенка некоторой иронии по поводу моего неожиданного для них иночества. Вообще наше молодое академическое монашество не встречало сочувствия не только у наших профессоров, но и в других широких церковных кругах. Быстрое продвижение по службе молодых монахов, часто не по достоинству и не по их заслугам, всегда давало пищу к подозрению, что мы шли в монашество не по идейному побуждению, а ради карьеры (будущее архиерейство!). Доля правды в этом подозрении, несомненно, была: не следовало нас так быстро тащить по ступеням служебной иерархии. Я скоро на себе испытал большую трудность от такого быстрого возвышения.
Связанные единством церковного духа и идейного направления, встретившиеся после долгой разлуки под сенью любимой "alma mater", — мы, молодые монахи, наслаждались нашей взаимной братской близостью, мы делились впечатлениями, обсуждали интересующие нас вопросы; ездили в "Вифанию", катались на лодке на прудах… При этих условиях какой отрадой был для нас летний отдых! Тут подоспело событие, которое решило мою дальнейшую судьбу.
В Академию приехал ректор Петербургской семинарии архиепископ Иннокентий (Фигуровский), впоследствии начальник миссии в Пекине; у него возникли недоразумения с Петербургским митрополитом Палладием, и его назначили в Москву в Покровский монастырь. Он привез из столицы много всяких новостей, в числе их была одна, для меня очень важная.
— Какого-то иеромонаха Евлогия назначили инспектором Владимирской семинарии, — вскользь сказал не знавший меня ректор.
— Как — Евлогия? — удивились все присутствующие.
Известие было столь неожиданно и невероятно, что в него поверили лишь через два-три дня, когда о моем назначении было напечатано в газетах.
Оказалось, преосвященный Ириней по окончании учебного года отправил свое очень благоприятное для меня донесение о моей деятельности в Тульской семинарии, и вот в результате мне дали такое высокое и ответственное назначение.
Я вернулся в Тулу и стал ждать указа.
8. ИНСПЕКТОР СЕМИНАРИИ (1895–1897)
Мое назначение инспектором во Владимирскую семинарию меня очень удивило. Не только удивило избрание меня, молодого неопытного педагога — мне было 27 лет — на ответственную должность, но назначение именно во Владимирскую семинарию, которая только что пережила бурные и тяжелые события.
Семинария была огромная (500 человек семинаристов). Дух в ней был "бурсацкий" и в то же время крайне либеральный. Дисциплину начальство поддерживало строжайшую, но это не мешало распущенности семинарских нравов и распространению в среде учащихся революционных идей. У семинаристов была своя нелегальная библиотека, которой они пользовались в течение многих лет. Прятали они ее где-то в городе, а когда ей грозила опасность, перевозили в более надежное место; о том, где она находится, знали всегда лишь два семинариста-библиотекаря. Каждый ученик после летних каникул делал свой взнос и пользовался весь учебный год запретными плодами. Писарев, Чернышевский, Златовратский, Решетников, Ключевский (лекции его были запрещены), социал-революционная "Земля и Воля"… ходили по рукам. Начальство перехватывало отдельные экземпляры, конфисковало их, обрушивалось репрессиями на провинившихся, лишая их стипендий, но зла искоренить не могло. Отнятые экземпляры заменялись новыми, тем дело и кончалось. Семинаристы проявляли редкую товарищескую дисциплину, друг друга никогда не выдавали, и библиотека оставалась неуловимой.
Во главе семинарии стоял архимандрит Никон (из вдовых священников). Это был красивый, здоровый, могучий человек, монашества не любивший. "Мне бы не монахом, а крючником на Волге быть…" — говорил он. О.Никон принял постриг не по влечению, а по необходимости, дабы как-нибудь устроить свою горемычную судьбу вдового священника. Вдовство бездетного священника — подлинная трагедия. Люди, склонные к семейной жизни, обрекались на безысходное одиночество. Сколько вдовых священников не могли его вынести — и спивались! Сколько поневоле принимали постриг! О.Никон тоже мучительно переживал навязанное ему внешними обстоятельствами монашество и периодами впадал в мрачное уныние, близкое к отчаянию… Он сам сознавал, что в монахи он не годится. "Из попа да из солдата хорошего монаха не выкроишь", — говорил он. Архимандрит Антоний (Храповицкий) был того же мнения о монахах из белого духовенства и отзывался о них с насмешкой: "Сразу их узнаешь: уши наружу — значит, из попов [7]. А соберутся такие монахи вместе, сейчас же начинается: "Вот покойница Анна Ивановна говорила то-то…"
Тяжелая участь о. Никона наложила на него след. Честный, умный, способный (хорошо окончил Петербургскую Академию), он замкнулся в рамках строгой законности, чуждой любви и идеализма. Дисциплину он поддерживал жестокими мерами: устрашением и беспощадными репрессиями. В семинарии создалась тяжелая атмосфера, столь насыщенная злобой, страхом и ненавистью по отношению к начальству, что весной 1895 года (за полгода до моего приезда) произошел взрыв давно уже клокотавшего негодования.
В Николин день, 9 мая, великовозрастный ученик 2-го класса, 17-летний С. выждал, когда о. Никон после обедни ушел в свой цветник (о. ректор очень любил цветы и сам за ними ухаживал); воспользовавшись мгновением, когда тот наклонился над клумбой, подбежал — и с размаху ударил его топором по голове… Размахнулся вторично: топор сорвался, в руке осталось топорище… Клобук оказался "шлемом спасения", о. Никон отделался сравнительно легкой раной — задеты были лишь внешние покровы головы; но все же из-под клобука хлынула кровь. Он упал… Приподнявшись, успел еще крикнуть: "За что ты меня?.." — "Простите, Христа ради"… — пролепетал С. Со всех сторон сбежались семинаристы и схватили преступника. Прибыл доктор, нагрянула полиция, собралась большая толпа народу, поднялся крик… Одни ругали начальство, другие — семинаристов. Кто-то кричал "бей!". Возбуждение росло… Пришлось пригнать солдат, жандармов… Приехала прокуратура.