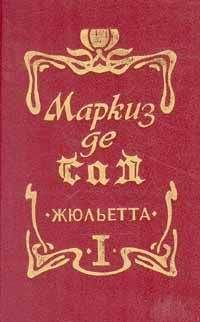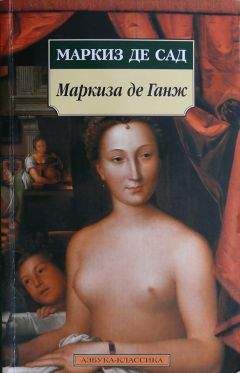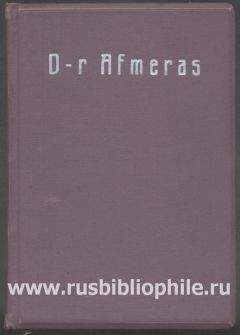Нина Щербак - Любовь поэтов Серебряного века
А после на дровнях, в сумерки,
В навозном снегу тонуть.
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?
Но этого путешествия ей совершить не пришлось: „Вас придерживают под самый конец“, – говорил Николай Николаевич Пунин, и лицо его передергивалось тиком. Но под конец ее забыли и не взяли, зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пунина. На вокзал встречать Анну Андреевну поехал Лева – он в те дни гостил у нас. Мы напрасно передоверили ему это несложное дело – он, конечно, умудрился пропустить мать, и она огорчилась: все шло не так, как обычно. В тот год Анна Андреевна часто к нам ездила и еще на вокзале привыкла слышать первые мандельштамовские шутки. Ей запомнилось сердитое: „Вы ездите со скоростью Анны Карениной“, – когда однажды опоздал поезд, и: „Что вы таким водолазом вырядились?“ – в Ленинграде шли дожди, и она приехала в ботиках и резиновом плаще с капюшоном, а в Москве солнце пекло во всю силу. Встречаясь, они становились веселыми и беззаботными, как мальчишка и девчонка, встретившиеся в „Цехе поэтов“. „Цыц, – кричала я. – Не могу жить с попугаями!“».
Мандельштам соединил в себе «суровость Тютчева с ребячливостью Верлена». И как все гениальные люди, он был чуточку не от мира сего. Мать Максимилиана Волошина даже называла его «мамзель Зизи». Как-то в Коктебеле в молодые годы Мандельштам сделал вид, что он немец, и, садясь в лодку, сказал лодочнику с акцентом: «Только, пожалуйста, без надувательства парусов». Нуждаясь в деньгах, он однажды подал заявление в группком писателей с просьбой выдать ему аванс на свои собственные похороны. В быту Мандельштам был неаккуратен, забывчив и рассеян – словом, настоящий поэт.
Все это надо иметь в виду, когда рассказывают о долгой совместной жизни Осипа и Надежды. Надежде Яковлевне приходилось все это терпеть и выносить, ухаживая порой за мужем как за маленьким ребенком (в поэзии – гигант, в быту – ребенок, типичная ситуация). И еще один аспект их семейных отношений – ревность. Мандельштам любил женщин и увлекался ими не раз. Так, в 1933 году он увлекся молодой поэтессой Марией Петровых. Мандельштам пригласил ее в гости в дом, а она, несмотря на строгий уговор, опаздывала. Надежда Яковлевна подтрунивала над мужем по поводу очередного звонка в двери: «Что, Ося, опять не твоя красавица? Как же, придет она вовремя. Твоя Машенька любит, чтоб ее подождали». Мандельштам, однако, не смущался подобных уколов-фраз. Он, как обычно, был распахнут настежь и не скрывал ничего. Своим друзьям он говорил: «Наденька – умная женщина и все понимает. И потом, у нас с ней одинаковый вкус, и все мои женщины ей тоже нравятся. Жили же Брики с Маяковским, а Гиппиус и Мережковский – с Философовым». Борис Пастернак после таких откровений изменился в лице и быстренько покинул квартиру Мандельштамов.Переживать увлечения мужа (или жены) – это всегда тяжело. Частенько именно из-за этого рушатся брачные союзы. Надежда Яковлевна все это достойно выдержала. Однако самое сложное в совместной жизни были, безусловно, не внутренние взаимоотношения, а преследование поэта властью, два его ареста, лагерь и последовавшая затем смерть, и далее невозможность в течение долгих лет опубликовать его наследие:
По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.
До первой ссылки Мандельштам мечтал: «Мы откроем лавочку. Наденька будет сидеть за кассой… Продавать товар будет Аня [4] ». «А вы что будете делать, Осип Эмильевич?» – спрашивали его. «А там всегда есть мужчина. Разве вы не замечали? В задней комнате. Иногда он стоит в дверях, иногда подходит к кассирше, говорит ей что-то… Вот я буду этим мужчиной».
13 мая 1934 года Мандельштам был арестован. Приговор – три года ссылки в Чердыни. После хлопот Ахматовой и Пастернака Чердынь заменяется Воронежем. Вот как Надежда Мандельштам описывала одно из посещений Мандельштама в тюрьме:
«Через две недели случилось чудо, первое по счету: мне позвонил следователь и предложил прийти на свидание. Пропуск вручили с неслыханной быстротой. Я поднялась по широкой лестнице таинственного дома, вошла в коридор и остановилась, как мне велели, у двери следователя. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее: по коридору вели заключенного: видно, никак не ожидали, что в этом святилище может оказаться посторонний. Я успела заметить, что арестант – высокий китаец с дико выпученными глазами. Мне не удалось разглядеть ничего, кроме безумных глаз и падающих брюк, которые он подтягивал рукой. Конвоиры, увидев меня, засуетились, и вся группа тотчас исчезла в какой-то комнате или боковом проходе. Я еще успела даже не рассмотреть, а скорее почуять физиономии конвоиров внутренней охраны, резко отличающихся по типажу от внешней. Впечатление было мимолетным, но от него осталось чувство ужаса и странного холодка, пробегающего по спине. С тех пор холодок и мелкая дрожь всегда оповещают меня о приближении людей этой „внутренней“ профессии еще до того, как я замечаю их взгляд, – голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами, только глаза. Дети заимствуют этот взгляд у родителей – я наблюдала его у школьников и у студентов. Впрочем, эта особенность профессиональная, но у нас она страшно, как и все, подчеркнута, словно все люди с сыщицким взглядом – первые ученики, старательно демонстрирующие учителю, как хорошо они усвоили курс. Китайца увели, но передо мной всегда возникают его глаза, когда я слышу слово „расстрел“. Каким образом допустили эту встречу? По слухам, „внутри“ приняты тончайшие технические меры, чтобы таких столкновений не случалось: коридоры будто разделены на секторы, и особая сигнализация оповещает конвоиров, что проход занят. Впрочем, разве мы знаем, что там делается? Мы питались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь явление физиологическое и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Впрочем, Анна Андреевна, услышав это, рассердилась: „Как не страх? А что еще?“ Она утверждает, что никакой здесь физиологии нет и это был страх, самый обыкновенный, мучительный, дикий страх, который мучил ее все годы до самой смерти Сталина. Рассказы о технической оснащенности – они касались множества вещей, далеко не только коридорной сигнализации, – прекратились только в конце тридцатых годов в связи с переходом на „упрощенный допрос“. Новые методы были столь понятны и традиционны, что положили конец всяким легендам. „Теперь все ясно, – сказала та же Анна Андреевна, – шапочку-ушаночку и фьють – в тайгу“. Отсюда:Там, за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей
Тень мою ведут на допрос…
Когда ввели О. М., я заметила, что глаза у него безумные, как у китайца, а брюки сползают. Профилактика против самоубийств – „внутри“ отбирают пояса и подтяжки и срезают все застежки. Несмотря на безумный вид, О. М. тотчас заметил, что я в чужом пальто. Чье? Мамино… Когда она приехала? Я назвала день. „Значит, ты все время была дома?“ Я не сразу поняла, почему он так заинтересовался этим дурацким пальто, но теперь стало ясно – ему говорили, что я тоже арестована. Прием обычный – он служит для угнетения психики арестованного. Там, где тюрьма и следствие окружены такой тайной, как у нас, и не подчиняются никакому общественному контролю, подобные приемы действуют безотказно. Я потребовала объяснений у следователя. Неуместность всяких требований в этом судилище очевидна сама по себе. Требовать там можно только по наивности или от бешенства».
Когда Мандельштама сослали в Воронеж, Надежда Яковлевна отправилась с ним. Мандельштам болел, ему было плохо. Как он писал, «тем, что моя „вторая жизнь“ еще длится, я всецело обязан моему единственному и неоценимому другу – моей жене».