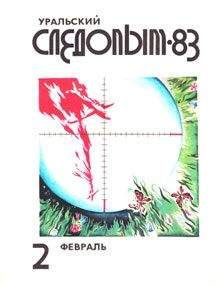Лев Копелев - Хранить вечно. Книга вторая
Произнеся все единым духом, она пытается положить на стол бумаги, уже и не думая обо мне, постороннем.
Папеич встает рывком. Он молча, пристально, яростно смотрит на секретаршу, так, что та отступает на шаг. Потом говорит негромко, медленно и раздельно:
- Скажите - пожалуйста скажите - гражданину оперативному уполномоченному, что пока еще я главный хирург этой больницы и значит я отвечаю за больных и персонал… Я моих распоряжений отменять не буду… И к нему идти не намерен… - посмотрел на часы. - Через час у меня назначена операция и я отдьгхаю перед операцией, вот за шахматами… Именно так я готовлюсь к работе… И поэтому прошу меня больше не беспокоить… Понятно? И вот что еще… Если гражданин оперативный уполномоченный самовольно отменит мое распоряжение, то это будет значить, что он вместо меня стал главным хирургом… Тогда я немедленно прекращаю работу. Тогда скажите гражданину оперативному уполномоченному, - опять посмотрел на часы, - через час необходимо оперировать аппендицит во втором корпусе, а затем еще сегодня там же грыжу и вскрывать нарыв - кстати, его коллеге, уполномоченному с 9-го, он лежит в первом корпусе. Тогда пусть сам гражданин оперативный уполномоченный сегодня делает операции. Понятно? Прошу, чтоб через полчаса мне доложили, ушел ли этот этап. Вам затрудняться незачем… Там у вас есть дневальный зэка… Не забудьте только, пришлите сообщить… В противном случае пусть оперирует сам гражданин оперативный уполномоченный. Понятно? До свиданья!…
… Я сидел, уставившись в доску, и курил. Папеич опять сел, утирая платком влажный лоб и шею…
- Ну вот видите! Вы опять зевнули коня… Я же говорил! Без обратных…
Вечером телефонист-заключенный звонил на 18-й и у тамошнего телефониста, тоже зэка, спрашивал, как прибыл этап, спрашивал поименно о здоровье и при этом намекнул, кто каков.
Прошел еще месяц. Я уже работал медбратом во втором хирургическом корпусе. Вечером дежурил. После поверки прибежала Эдит.
- Выйди на минутку. Помнишь Степана, того, через которого тетю Дусю отправили? Его привезли сегодня в первый корпус… Перелом двух ног и позвоночника; дерево на него упало…[12]
Часть шестая
МОСКВА МОЯ
Глава тридцать первая
САНАТОРИЙ БУТЮР
Самый счастливый час в жизни?… Сегодня я бы уже не решился выбрать, какой именно час или день назвать самым счастливым. Но было время, когда на такой вопрос я отвечал уверенно: в августе 1946 года - не помню числа, примерно около четырех - был самый счастливый час моей жизни.
За трое суток до этого меня привезли в Москву. По пути я провел две недели в Горьковской пересыльной тюрьме. Ждал. Тоскливо было в людной камере. Вокруг чужие люди, измученные, озлобленные, несчастные; иные неприятны, даже омерзительны. После этого - сутки в удушливой тесноте столыпинского вагона Горький-Москва.
Потом вечер-ночь-день - вторая ночь - второй день и снова ночь в таком же вагоне, но уже неподвижном. Пересылка у Казанского вокзала. В купе-камеру, рассчитанную на 6-7 человек, набивали по 20-30; почти полдня было 36. На самых верхних полках третьего яруса не лежали, а сидели по трое, по четверо и по пять, задыхаясь от жары - крыша накалена августовским солнцем - и от зловония. На нарах второго яруса корчились, сидя в раскоряк. Внизу и сидели, и стояли, и лежали на полу, под скамьями. Внизу тоже задыхались, но к тому же еще были измяты, изжеваны давкой, затекшие ноги и руки сводило судорогами. Сверху текла моча - кто-то не удержался. Его исступленно материли, но как разобрать, кого именно? Да и не вытянуть руки…
По утрам выводили на оправку: конвоиры зевали, они были не злыми, а просто скучающе-равнодушными. Загаженная уборная. «Давай, давай, быстрее, быстрее». Торопили не столько конвоиры, а проклинающие и умоляющие сокамерники. Потом вызывали с вещами и грузили в воронок.
Радость - можно расправить руки и плечи, пройти несколько шагов, покачиваясь на ватно мягких ногах, в открытой двери вагона - утреннее солнце, великолепная прохлада. В воронке - опять давка, но уже не такая чудовищная. Вошедшие первыми сидят на скамьях, другие - на мешках, вплотную к их ногам, только последние - вповалку.
Везут. За тонкими железными стенками - шумы города: голоса людей, движение машин, гудки, сирены. Но через час-другой стены накалялись от солнца и в зарешеченный вентилятор в крыше сочился не воздух, а горячая пыль, пахнувшая асфальтом.
Часто стояли. Слышно было, как переговариваются конвоиры. Они ходили в пивную, в столовую. Мы стучали:
- Начальник, пусти оправиться… пить… мы голодные.
- Скоро приедем… Уже скоро… Вот сейчас…
Мы заезжали на другие вокзалы - Киевский, Курский, Белорусский. Вталкивали новых пассажиров.
Снова и снова просили, умоляли, требовали:
- Оправиться, пить… хоть глоток… оправиться…
- Терпи, уже скоро… Кто там ругается? Вот наденем браслеты и в рот портянку, будешь знать, падло!
Все же временами становилось просторнее, можно раздеться, сесть на железный пол - он холоднее стен, под дверью - щель, тоненькое дуновение. К вечеру и вовсе легче.
Просыпался голод: утром отправили до раздачи пайки. Но к вечеру привезли опять на Казанский, в тот же или в другой такой же вагон - их несколько стояло в тупике…
- Какая вам пайка, все роздали…
Так было и на второй день. Все роздано. Хорошо, что пустили на несколько секунд в загаженную уборную - и эти секунды были прекрасны. Ругаться с конвоем нельзя - впихнут, как накануне, в самое худшее купе. А это, кажется, не так полно: сесть, правда, уже некуда, но можно переступать с ноги на ногу, достать из кармана махорки, свернуть.
- Откуда, мужик?
- Отсюда же… Утром увозили… И вчера, и сегодня.
- Мы тоже уже два раза катались… увозют, гады, а пайки себе… Хоть бы на Красную Пресню отправили, там порядок. Там в вокзальных камерах горячая баланда и сахарок.
Но Краснопресненская тюрьма - пересылка для осужденных, отправляемых из Москвы, а на Казанском в вагонах - пересылка для прибывающих в Москву подследственных и по спецнарядам.
Третью ночь дольше всего я стоял в смрадной, душной тесноте, но все же хоть сверху ничего не текло и не капало и оставалась еще махорка. Часа два или три удалось подремать, сидя на смену с тощим, бледным молодым вором. Я оставлял ему покурить и давал медицинские советы: его взяли в Куйбышеве на рынке, жестоко избили, он жаловался, что мочится кровью.
В нашем купе было несколько цыган. Один, совсем молодой, лежал под скамьей. Ржевские колхозники, два угрюмых молчаливых старика, в оккупации были старостами. Мальчишки из ремесленных училищ, осужденные за прогулы - задержались дома после каникул. Пожилой машинист из Западной Сибири.