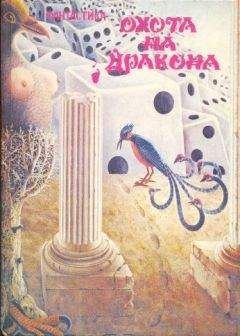Евгений Ухналев - Это мое
Пересмотр дела
Но я не все время был в Воркуте. Однажды, не по моей воле, у меня случился многомесячный перерыв. Я уже работал в проектной конторе, и меня однажды вывозили — то ли на пересмотр дела, то ли еще по какому-то бредовому поводу.
К тому времени я уже довольно долго работал в проектной конторе, из меня даже начал получаться какой-никакой профессионал. Это было важно, потому что в лагере сложилась обстановка постоянной неуверенности — буквально каждый чувствовал себя неуверенно на том месте, где он работал, где он морально обживался, то есть везде. В лагере все время была какая-то конкуренция, такой микровольный социализм: ты постоянно был не слишком уверен, удержишься ты на этом месте, не съедят ли тебя. И в этом отношении наша проектная контора была своеобразным островком безопасности. Мы были отрезаны от какой-либо конкуренции, наш коллектив очень настороженно относился к пришлым специалистам, которые появлялись у нас крайне редко. Почти предоставленные сами себе, мы были отгорожены от остальных забором тщательного отбора, и если кто-то чужой все-таки задерживался у нас, он вживался в коллектив, становился своим. Но каждый из нас на подсознательном уровне все равно сознавал: «Сегодня мне хорошо, но под воздействием внешних причин все может измениться».
И вот в один прекрасный день меня снова выдернули, и я опять оказался на этапе. Естественно, мне никто ничего не говорил, я не знал, куда и зачем меня везут. Но это незнание не тревожило: для многих занятых на общих работах такой этап был спасением, они были рады любым способом хотя бы на время избавиться от этого непосильного труда. Если сначала мы все начинали нервничать от одного слова «тюрьма», или «пересылка», или «следственный изолятор», то потом, в лагере, все это на самом деле воспринималось как какое-то спасение — спасение от общих работ, от неустройства, от холода и голода. Потому что, если сравнивать с лагерем, тюрьма — это довольно неплохие условия.
Бывали случаи, о которых рассказывали уголовники и политические, когда кого-то вызывали, спрашивали: «Такого-то вы знали?» Или показывали чью-то фотографию: «Знаете его?» И человек, абсолютно не ведая об этих людях, отвечал утвердительно, просто чтобы его взяли свидетелем по делу этих людей, чтобы ему вырваться. Страха, что добавят срок, не было — почти всем уже дали по 25 лет, чего еще бояться? Хотя в первые пару лет после войны была странная мера пресечения — 15 лет каторги. Все это ничем не отличалось от нашего режима, каторжане работали с нами, сидели с нами, у них был такой же паек. Но им максимально давали 15 лет, а нам — 25. Какая-то нелепость… Короче говоря, приезжал такой человек в следственную тюрьму и признавался: «Нет, я его не знаю». А что тебе сделают? Даже какое-то злорадство охватывало: вот, лишнюю работу придумал этому следственному офицерью, лишнюю клизму. Потому что, получается, им снова надо ко-го-то искать. При этом офицерье тоже почти всегда знало, что их обманывают. А что делать? Рутина — она рутина и есть, они за это деньги получали, а ответственности никакой. Результативность-то им была не нужна. А если вдруг нужны были новые лица для посадок — пожалуйста, целая страна, брали прямо на тротуаре. Так что все были довольны друг другом.
Короче говоря, повезли меня обратно в Ленинград. И опять началась канитель — Шпалерка, Большой дом. Прекрасно — катаюсь за государственный счет, тепло, хоть как-то кормят, работать не надо. Снова Большой дом — привычные места. Не те же камеры, конечно, — самой первой моей камерой была 230-я, потом меня перевели в 232-ю, а теперь я оказался в какой-то из соседних. Некоторое время я сидел один, потом то ли меня подселили к кому-то, то ли его ко мне, не помню. Ему было под шестьдесят, и я, к сожалению, не помню его фамилию, хотя стоило бы — добрый был человек. Он был из породы тщедушных крючков, и я на собственном опыте убедился, что внешний вид человека не имеет значения, ни о чем не говорит. Вообще за долгое время сидения в тюрьме и в лагере я очень сильно стал сомневаться в латинской поговорке «в здоровом теле — здоровый дух». Наоборот, я убедился, что очень многие, казалось бы, тщедушные людишки оказывались более крепкими и более живучими, чем здоровяки. Они как будто двужильные. Вот он был из таких, внешне тщедушный, но сильный. И очень добрый, очень бесконфликтный, очень разговорчивый. Мы с ним много болтали обо всем. Очевидно, всю жизнь он был ворчуном. Все было не по нему, «сейчас плохо, а раньше было хорошо».
И вот у него дома была одна калоша, которую он хранил, словно какой-то важнейший артефакт. Эта калоша была очень качественная, производства еще дореволюционного завода «Треугольник», который потом называли «Красным треугольником». И он всегда всем гостям, знакомым и незнакомым, демонстрировал эту калошу и говорил: вот какое качество было раньше. И кто-то на него настучал. Естественно, было пришито черт-те что: японский шпион, абиссинский шпион, новозеландский шпион, но это неважно, на это никто не обращал внимания, даже сами следователи. Потом меня от него выдернули и повезли в Кресты на сохранение — там сидели уже не нужные для следствия люди и ждали отправки. У нас было плохо с куревом, и от этого мы очень страдали. В первый день я сунул руку в телогрейку — я все еще был в лагерном — и обнаружил, что он запихнул мне в карман целую пачку сигарет «Аврора». В тех обстоятельствах оторвать от себя целую пачку сигарет — это был почти подвиг.
Зачем же меня привозили? Дело в том, что моя мать, естественно, все время писала и хлопотала, притом совершенно напрасно, потому что это абсолютно бессмысленно. Но она-то этого не знала, она вообще была очень правоверной: таков порядок, нужно использовать все что есть, они обратят внимание, они пересмотрят дело, они поймут, они разберутся. Такая доверчивая натура дореволюционного склада. Она платила какие-то деньги адвокату, а он, конечно, ничего не делал. Все эти адвокаты имели по сто наших дел и сами осознавали, что рыпаться бессмысленно. Это были жулики, которые с родственников каждого из этих своих подопечных брали деньги, потому что им, дескать, нужно ехать в Москву, подавать какие-то документы. Но они никуда не ездили и ничего не подавали, это было чистое жульничество.
Пока я сидел на Шпалерке во время пересмотра дела, меня и вызвали-то всего один раз. То ли майор, то ли подполковник, то ли полковник Маляров… Шпалерка — старинная тюрьма, которая расположена со стороны заднего фасада Большого дома, она существует с дореволюционных времен. Во время революции там, где был Большой дом, был губернский суд, его сожгли, а тюрьму, конечно, нет. Забавно, кстати, что тюрьмы почти везде не тронули — знали большевики-засранцы, что понадобятся. Сожгли только одну, так называемый Литовский замок, который был напротив Мариинского театра, остальное оставили. А еще очевидцы рассказывали, что во время войны немцы бомбили все, но не трогали тюрьмы… Но это так, лирическое отступление.