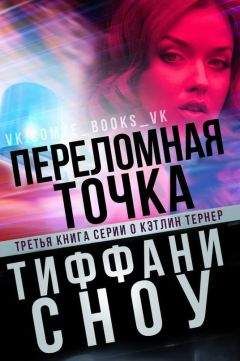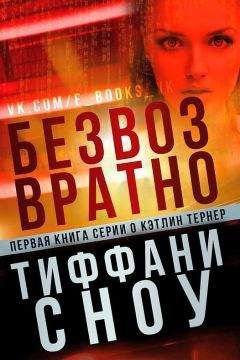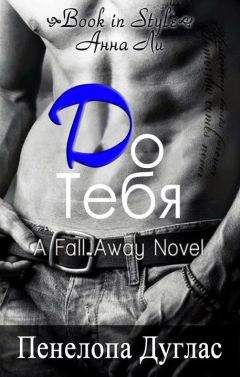Борис Изюмский - Нина Грибоедова
Грибоедов и Нина поместились в угловой комнате, обогреваемой грубо сложенным камином. Слуги принесли походный столец, раздвинули его, положили возле тахты леопардову шкуру, и в похожей на келью комнате сразу стало уютно.
После ночевок под холодными шатрами на высоких горах, когда Нине приходилось натягивать чулки, связанные Талалой, здесь, конечно, была благодать.
К вечеру пошел сильный дождь.
— Знать бы имена сорока лысых! — серьезно сказал Александр Сергеевич, и Нина рассмеялась.
Это Маквала уверяла, что стоит записать на бумаге имена такого количества лысых, повесить тот лист на дерево, как дождь немедленно пройдет.
— Ты не думай, что Маквала глупышка, — заступилась за подругу Нина.
— Ну что ты! У Ежевички острый ум…
Александр Сергеевич усадил Нину в кресло напротив камина, сам сел на низкую скамейку у ее ног.
За окном дребезжали потоки в лопнувшей водосточной трубе. Свет оплывшей свечи в шандале едва освещал комнату. Потрескивали дрова в камине, отблески огня причудливо расцвечивали Нинино лицо, синий халат Грибоедова, перепоясанный толстым шнуром с золотистыми желудями на концах.
Нина протянула руку, взяла кинжал, лежавший на столе.
— Откуда он у тебя? — спросила она мужа.
Лицо Грибоедова стало таким, каким было возле одинокого камня на холме — замкнутым, строгим.
— Я вывез с поля боя умиравшего горца… Он подарил… как побратиму…
Нина осторожно извлекла из ножен голубоватый клинок дамасской стали. Клинок сверкнул холодно и предостерегающе. Надпись на нем требовала: «Будь тверд душой».
Да, это очень важно и для жены Поэта — быть твердой душой. Она вдвинула клинок в ножны.
— Если кинжал переживет меня, отдай его достойному, — словно завещая, так же неожиданно, как у могилы Монтрезора, сказал Грибоедов.
— Ну что за мрачные мысли! — запротестовала Нина. Молодо, ослепительно сверкнули ее зубы. — Будем век жить, не умрем никогда!
Милая девочка. Ну будем, так будем.
— Ты знаешь, Нинуша, я, пожалуй, напишу письмо, — произнес он, вставая. Отвинтил крышку походной чернильницы, пристроившись на краю стола, начал писать Варваре Семеновне. И она, и муж ее, Андрей Жандр, — оба литераторы — были его давними и добрыми друзьями, и Грибоедов любил писать им.
Как-то Варвара Семеновна рассказала ему о чудовищном преступлении одного помещика. «Напишите об этом, непременно напишите!» — стал просить он. Недавно, перед отъездом в Персию, Варвара Семеновна дала ему прочитать рукопись — первые главы романа. Там описывался и подлец-помещик. Это было настоящее. «Прошу, как друг, настаиваю — завершите труд». Она обещала.
Нина скосила глаза на белый лист перед Александром. Он пишет женщине, несомненно женщине. Как надо вести себя в таких случаях? Спросить — кому? Но это унизительно. Сделать вид, что ее не касается… Но это выше сил. А может быть, он пишет все же мужчине? Нет, нет — женщине!
Грибоедов обмакнул перо в чернильницу.
«17 сентября 1828 г. Эчмиадзин.
Друг мой, Варвара Семеновна!
Жена моя, по обыкновению, смотрит мне в глаза, мешает писать, знает, что пишу к женщине, и ревнует…»
Он приподнял голову, близоруко щурясь, лукаво посмотрел на Нину:
— Показать тебе, что я пишу?
— Нет, нет, — торопливо, пожалуй, слишком торопливо, возразила она. — Ты знаешь, у меня болит голова… Я прилягу.
— Ложись, родная. Может быть, дать лекарство?
— Не надо, пройдет…
Александр уложил ее на тахту. Нина свернулась калачиком. Он укрыл ее клетчатым пледом, подоткнул его со всех сторон:
— Ну спи, моя арчви…
Грибоедов возвратился к листу, продолжил письмо.
«Будем век жить, не умрем никогда!» — это жена мне сейчас сказала.
Он поглядел в ее сторону.
Нина лежала к нему спиной. Из-под одеяла виднелась нежная, беспомощная, как у ребенка, шея. Под завитками волос таила тепло трепетная жилка. На мгновение Грибоедову показалось: он чувствует запах этой шеи, ощущает губами биение жилки. Александр Сергеевич неохотно отвел глаза.
«Простительно ли мне, — думал он, отодвинув лист, — после стольких опытов, стольких размышлений вновь бросаться в новую жизнь?.. Конечно, утешительно делить сейчас все с воздушным созданием. И светло, и отрадно… А впереди так темно, неопределенно!»
Притаившись, ждал его в Тегеране личный враг — Аллаяр-хан. У него разбойничий прищур глаз, широкий нос в щербинах оспы, черно-красная борода.
Когда Грибоедов, уже на исходе войны с персами, приехал в их Чорекий лагерь возле деревни Каразиадин, чтобы вести переговоры об условиях перемирия, то в палатке, Аббас-Мирзы за тонкой занавеской приметил яростного от унижения Аллаяр-хана. Мог ли хан забыть это? И позже, в Тавризе, только что занятом русскими, когда Грибоедов с передовым отрядом вошел в город, этот хан, присланный туда губернатором, подбивал жителей и два батальона сарбазов продолжать борьбу, а тем, кто не захотел идти за ним, собственной рукой отрезал носы и уши. Грибоедов обезвредил его, временно арестовав. Разве мог и это забыть Аллаяр-хан? А потом «верховного министра», на печатке которого было вырезано «краеугольный камень государства», били по приказу хана палками за то, что проиграл сражение, неумело готовил мятеж. Забыть ли такое?
И разве захочет простить русскому дипломату Аллаяр-хан деревушку Туркманчай, где у него из рук было выбито оружие? Ну, конечно же, теперь хан постарается уходить своего врага…
Грибоедов отогнал эти назойливые мысли, снова начал писать:
«Кроткое, тихое создание отдалось мне на всю мою волю, без ропота разделяет мою ссылку».
Да, в этом одном милом личике, в этом незамутненном характере для него соединилось все: она — сестра, жена, дочь, его вера и трепетная надежда.
Он закончил письмо, повернул кресло так, что узкое окно возвышалось перед ним. Поленья в камине догорали. Ему не хотелось звать слугу.
…Собственно, в свои тридцать три года он прожил уже несколько жизней… Студенческую, военную, литератора, дипломатическую… И еще ту главную жизнь, тайно связанную с друзьями, повешенными и сосланными на каторгу.
С чего началась его ненависть к рабству? Может быть, с того поранившего сердце дня детства, когда мать приказала выпороть милую дворовую девушку Глашу за то, что нечаянно разбила она вазу? И с этой поры он, как и его дальний родственник Радищев, навсегда возненавидел власть кнута.
…В памяти с особенной ясностью возник один июньский вечер. Только что освободили его из-под ареста. Чиновник 8-го класса Карсавский — услужник, повадками родной, брат Молчалива — выдал «очистительный аттестат» и прогонные деньги до Тифлиса «на три лошади за 2662 версты» — пятьсот двадцать шесть рублей сорок семь копеек да «на путевые издержки, полагая по сту рублей на 1000 верст».