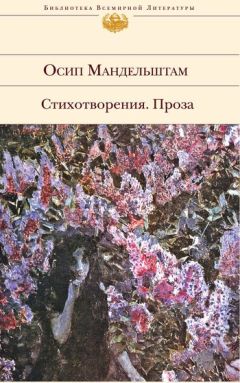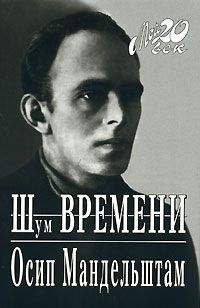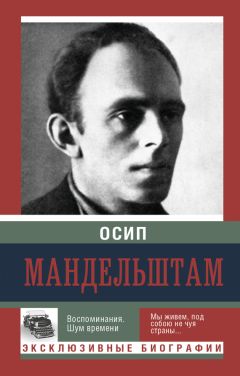Надежда Мандельштам - Мой муж – Осип Мандельштам
Я уважаю статистику и хотела бы знать, сколько женщин не похоронило своих отцов, братьев и мужей. Военные вдовы получили похоронки, а лагерные и тюремные – да и то далеко не все, а только те, у которых мужья были арестованы не раньше тридцать седьмого года, – посмертные реабилитации с наугад проставленной датой смерти. У огромного большинства выставленные даты падают на годы войны, но совсем не потому, что они умерли в военное время. Скорее всего, это попытка слить два вида массовых смертей – в лагерях и тюрьмах и на войне. Кто-то захотел запутать статистические подсчеты, которых никогда не будет. И никто не узнает места захоронения своих близких. Ямы, куда бросали людей с биркой на ноге, неприкосновенны. Быть может, когда-нибудь перекопают «зоны» лагерей, чтобы сжечь кости или сбросить их в океан. Для того чтобы скрыть прошлое, призовут старых «работников» или их верных сыновей и отвалят изрядную сумму. Прошлое скрыть нельзя, даже если статистики нет. Каждый уничтоженный человек еще скажет свое слово.
Я, вдова, не похоронившая своего мужа, отдаю последнюю дань мертвецу с биркой на ноге, вспоминая и оплакивая его – без слез, потому что мы принадлежим к бесслезному поколению. Каждую минуту я жду, что ко мне явятся и отнимут мои записки. Добровольно их я не отдам. Забрать их можно только со мной. Если это случится, я перестану завидовать Антигоне.
Обрывки воспоминаний
У Мандельштама есть запись: «Действительность носит сплошной характер, проза – прерывистый знак непрерывного». Воспоминания тоже прерывистые знаки, и нельзя их растягивать в сплошную линию. Этой записью Мандельштам показал, что не хочет отдавать дани погоне за длительностью и непрерывностью, которая захватила всех в первой половине нашего века. Мне думается, что к поискам непрерывности, к воспроизведению процессов в их течении, к погоне за длительностью привела какая-то особая – почти физиологическая – жажда, желание ощутить и всеми пальцами ощупать текущее – время, жизнь, движение, процессы… Эта потребность, столь сильная в литературе, проявилась, вероятно, во всех областях мысли, искусства, науки. Остановленное мгновение, замедленная съемка, разложение на мельчайшие частицы вещества – явления одного ряда и вызваны потребностью снова пережить уже прожитое, воспроизвести в движении уже происходившее, неслыханно растянуть каждый миг, чтобы он из мига стал длительностью.
По мере того как нарастали темпы, нарастала ценность мгновения. В глазах мельтешило от быстрой смены движений, и футуристы, восхваляя скорость, цеплялись за мгновение. Мандельштам отказался от попыток воссоздать непрерывность, но его любовь к замедленному – медленный вол, медлительные движения армянских женщин, тягучая и долгая струя меду, когда он льется из горлышка бутылки, – все это вызвано тем же желанием ощутить ход времени: «Но только раз в году бывает разлита в природе длительность, как в метрике Гомера…» Длительность для Мандельштама не самоцель, а, может быть, поиски Духа, жажда благодати: «Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианства пью холодный горный воздух… И с христианских гор в пространстве изумленном, как Палестрины песнь, нисходит благодать». Иногда это попытки ощутить вечность: единственный остановленный миг – Евхаристия: «Евхаристия как вечный полдень длится», потому что соучастники таинства через него приобщаются к вечности: «Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит». Ощущение мига как вечности, мечта «о луговине той» заглушаются «шумом времени», который есть «ход воспаленных тяжб людских».
Мандельштам остро сознавал единство жизни и личности и поэтому никогда не стремился к воссозданию моментов прошлого. Жизнелюбивый, он полностью – до дна – изживал текущее время и не искал повторения. «Все было встарь, все повторится снова» – констатация единства людей, общности их жизнеощущения, а не утверждение, что миги единой жизни повторяют друг друга. В частности, переживание длительности и непрерывности Мандельштам всегда черпает в объекте, а не воссоздает свои собственные переживания. Сосредоточенность не на себе, а на объекте лишала смысла всякое повторение моментов прошлого. Именно поэтому он мог сказать про себя, что память его враждебна всему личному. В «Листках из дневника» (дневника, кстати, никакого не было) Ахматова правильно отметила, что Мандельштам не любил вспоминать. Я прибавлю, что характер его воспоминаний всегда был фрагментарным и никогда не был личным. Иногда – довольно редко – он рассказывал о том, что видел или с чем столкнулся, и всегда его рассказ был знаком прошлого, неизбежно чем-то связанным с настоящим. Он запомнил, например, как столкнулся в коридоре «Метрополя» с группой меньшевиков, только что выгнанных из Совета. Они шли навстречу ему и громко негодовали, перебирая слова ораторов, которые требовали их изгнания. Мандельштам посторонился, пропуская их, и услышал: почему лакей?.. Мандельштам рассказал эту сцену, потому что к воспоминанию толкнул его вывод: «Они всегда, с первых дней, употребляли не слова, а крапленые карты…»
Я думаю, что Мандельштам умел так полно изживать время, потому что был наделен даром игры и радости. Ни в ком и никогда я не видела такой игры и такой радости. Когда он ушел из моей жизни, я, мертвая, жила брызгами радости в стихах и бесповоротным запретом самоубийства. Именно потому, что Мандельштам жил «пространством и временем полный», у него не было потребности возвращаться назад, и жизнь его отчетливо делится на периоды. Труд и жизнь у него связаны и неразделимы, и периоды жизни полностью совпадают с периодизацией поэтического труда. В стихах всегда отпечатываются события жизни. Они совпадают во времени. Проза всегда запаздывает: знаки должны осмыслиться и отстояться. Для этого нужен срок. Оставаясь самим собой, сохраняя полное единство личности, Мандельштам чем-то менялся в каждый период. Это был рост, а не перемены в человеке. События внешней жизни подстрекали внутреннюю жизнь, но не являлись ее причиной. Внутренняя жизнь, пожалуй, в большей степени определяет внешние события, чем наоборот. Что же касается до катастрофичности большинства биографий нашей эпохи, то они уж, во всяком случае, не формировали личность, а скорее расплющивали ее. Нужна была огромная сила, чтобы, несмотря на гнет и удушье, сохранить способность к росту. Это оказалось возможным только для людей, чья личность строилась на формообразующей идее такой мощи, что не внешние события влияли на рост личности, а отношение человека к внешним событиям. Все, что нам завещал девятнадцатый век, – наука, знание, гуманизм, анализ, не говоря уж о таких понятиях, как прогресс, культура, отвлеченные формы деизма, теософия, рационализм и позитивизм, не помогли никому сохранить себя. Все это только содействовало тлению и распаду. Мы видели этот распад и со стыдом отворачивались. Наибольшая опасность для Мандельштама заключалась в гуманизме – в русском понимании этого слова. Отсюда доверие к поискам социальной справедливости и ужас при виде нарастания жестокости и обмана. И я не перестаю удивляться силе Мандельштама и богатству внутренних ресурсов, которые дали ему возможность прожить полную жизнь и, не расплющившись, дойти до конца дороги. Таким он был до той последней минуты, когда я его видела, – до ночи с первого на второе мая 1938 года. Это и был конец дороги, потому что то, что было на Лубянке и за колючей проволокой, гораздо страшнее газовых камер.