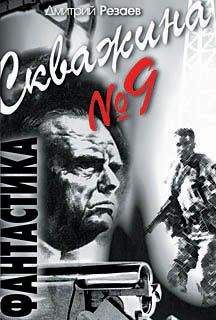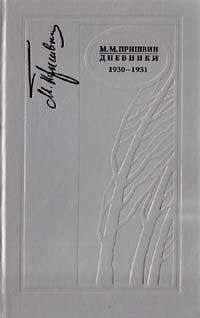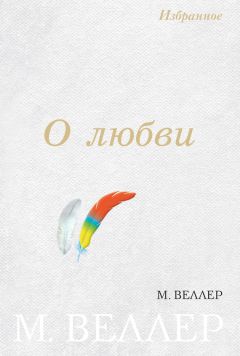Михаил Пришвин - Дневники 1928-1929
Козья матка. Я его защищала, как собака…
Она его проглотила со всей его ученостью. Скрыто в идиллии старосветских помещиков — личная трагедия (слышал о ней, что раз чуть не удавилась).
Григорьев. Умствование о поцелуе: стремление к целому (полов): «вырвал бы фонарный столб». Целое невозможно в этот миг, и потому первый поцелуй иногда не выходит. Переходя от Елены к Елене, пришел к последнему поцелую, это настоящий, но тут же и смерть.
Григорьев не может осилить теорию: много думает…
Я — о христианском и языческом поцелуе (не мог в такт попасть с «дамой» в танцах).
(Дуэль с Григорьевым.)
Золотые зубы. Что-то расстроило свидание.
Его жена старуха. Настоящим поцелуем в первый раз поцеловала внука.
Ефрос. Павл. — «У меня этого не было».
Старая дева. Она пожалась и ничего не сказала. Очередь быстро перекинулась к художнику (само собой понятно: дева). И неловкость быстро обошли.
Художник Пичугин. Не только целоваться, но даже близко сидя, робели. Уговорились, что в солдаты за него пойдет брат. Но вышло ему. После того пришел к ней и сказал: «Мне нельзя: я иду в солдаты, а ты теперь свободна». Тем и кончилось.
Лева. Сочинял недурно по Алпатову, хотя на него легло бремя истории.
Вот этим при случае и можно воспользоваться: изобразить первый поцелуй в истории: от патриархальных времен до наших.
Затея: собирать рассказы о первом поцелуе.
В ожидании разрешения критики. Надо иметь в виду трагедию массы, жаждущей вождя и вместо вождя получающей «начальство».
<На полях> Проба пера: никуда не годятся первые советские. Черт-е-что! Выбирал одно, другое и бросил…
Польза алкоголя: все искренне о себе рассказали.
Сама Елена. Поцеловала, но тут же узнала о нем что-то (не то обманывал, не то…) и отказала. Таких много: глуповато-капризна.
6 Июня. Продолжаются холода, начало которых 2-го Июня.
Вчера отправил Леву в Москву, в четверг или в пятницу он уезжает на Сахалин. Петю для подготовки в Лесной решил направить в Царское к Разумнику.
Все подумываю о том рабочем, который, опасаясь сделаться бюрократом, остается в производстве, сказать иначе: веруя в творчество массы, не хочет быть личностью(?) или: желая одухотворить своей личностью массу, остается при ней.
Всеобщая боязнь вручить дело массы личности.
Вопрос о социализме: соц-м — это вера в самотворчество массы (материи), выделяющей личность (понятную, подотчетную и… любимую: пример — когда один рабочий сказал, что юбилей Горького дорог, другой ответил: «нет, наш рабочий прост, он с этим не считается, он готов для своего (вождя) отдать все»). (Ленин — вождь — за то, что посмел идти впереди и до конца, Горький — не пошел до конца и остался с интеллигенцией). Личность культуры у рабочего, враждебная ему (Христос), но трагедия невежды: часто она враждебна только потому, что непонятна по невежеству; нельзя довериться, хотя надо бы. Вместо доверия гордое (наглое): «мы сами создадим» и создают бюрократа. Явление бюрократа есть следствие разрыва «народа» с интеллигенцией (культурой). Тут вся заковыка. Речь Тихонова Горькому об умирающей интеллигенции, последних «могиканах», — это вопль творческой личности в истории. Ему противоположен вопль рабочего о съедающем его бюрократе, вместо вождя бюрократ. Таким образом, между творчеством рабочей массы и культурной средой стоит неизвестный тем и другим бюрократ (а впрочем, бюрократ в другом плане есть детище диктатуры).
<На полях> Почему писатели не читают друг друга.
Друг мой, теория является на помощь творчеству, она ставит вехи на пути к будущему. Но теория не может заменить творчество. А мы теперь именно как будто поставили рекорд: «до какой-нибудь теории над творчеством». Вот почему теперь мы засмыслились и ничего не можем создать.
Современный тип всезнайки — комсомолец создался из наследственно русской писаревщины и еврея. (Замечательно, что у Горького, когда я пришел к нему, было в столовой два секретаря, один русский и другой еврей: очевидно, и Горькому без еврея невозможно обойтись.)
Замороженный Ленин. Могила Ленина теперь и является символом бюрократии (бюрократ — это умерший революционер).
Ленин и Горький.
Уехал в Италию. Умер безумным.
8 Июня. Лева приехал на Сахалин. Ясно, холодно, умеренный ветер.
К сожалению, с запозданием получил приглашение на вечер с Горьким. Хорошо бы послушать, что он там говорит.
— Я человек хитрый, — сказал он мне, — неужели же я не использую все это, все, что они мне устраивают.
Понимаю так: шесть лет он списывался с русской и заграничной интеллигенцией, потом несомненно сговорился с правительством и приехал, чтобы создать советское общественное мнение и начать возрождение страны и кончить все «по-хорошему».
Вот как люди политические высиживают свои планы! А как же иначе?
Вот об этом «иначе» надо крепко подумать, потому что высидеть можно и по-злому (говорится: «злой умысел», говорится: «хорошая мысль»; умысел — тайное, мысль хорошая является).
Горький приехал из «Музея Горького» и сказал: «Странное впечатление, как будто я уже и умер». Я ему на это: «Очень понимаю. Когда моя вещь напечатана, я с большим трудом могу ее прочитать: на третьей странице засыпаю». Он ответил: «А я вообще плохой читатель Горького».
Надо бы ему на это сказать: «Плохо, дорогой мой, надо постоянно перечитывать написанное, чтобы не делать ошибок впредь, а главное, чтобы оставаться всегда хозяином своего дела».
Да разве нет и у меня плана? Конечно, есть, конечно, сделав усилие, мог бы я записать его и объявить. Но я считаю преступлением объявлять свой план, прежде чем сам не прошел путь по расставленным вехам. Я хочу выходить в открытую только с вещью, а не с планами, потому что, первое: высказав свой план, я, обыкновенно, знаю по опыту, этим и удовлетворяюсь и дальше не пойду по нему; второе — ведь нет никакого ручательства в том, что план мой <не> ошибочный и значит, соблазняя своим планом другого, я увлекаю их к погибели; третье — раскрыв свой план не раньше, а после создания вещи, я опять неспокоен, — а что если вещь эта несовершенная — раз! и если вещь совершенная, то как поручиться за то, что теория, оказавшая мне лично большую услугу, в руках другого <не> приведет к машинизации творчества, к дешевке и обезьянству — два! И потому не лучше ли при создании романа, совершенно так же, как при постройке здания, убирать от глазу леса?
И потом всему есть свое время. В обществе с устоявшимся бытом люди живые утомляются чередованием обедов в длинном ряду, является потребность в свежей мысли, в каком-нибудь теоретическом плане, брошенная в такое общество идея производит в нем иногда движение к лучшему. При таком соотношении интеллекта и жизни знаменитую комедию Грибоедова хочется назвать «горе от ума» в том смысле, <что> горе обществу, не идущему навстречу мысли. Но если в обществе с уничтоженным бытом, где все от ума, где каждый мальчишка «все знает» и при первой удаче лезет в бюрократию и учит других, где всякий приходящий в голову план обеспечивает место в бюро с жалованием за счет самой жизни — я понимаю «жизни» как творчества, — то ко всякому плану, теории является недоверие и вместо иронического «горе от ума» мы можем без всякой иронии и во всей простоте сказать: горе уму!