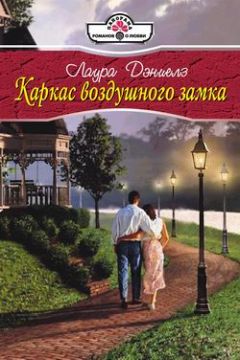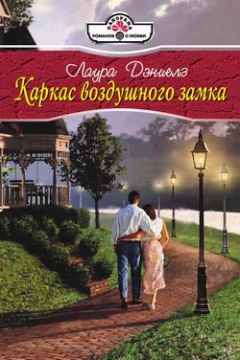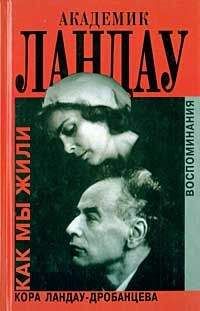Антон Бринский - По ту сторону фронта
В ту же ночь я перешел через озеро и в деревне Обузерье встретился с колхозным бригадиром Кузьмичевым, который держал связь с черейской и лукомльской подпольными организациями. Он вызвал представителя из Лукомли. Мы его знали под кличкой Сапожник и всю группу называли группой Сапожника. Он доложил о работе и между прочим сообщил, что как раз сегодня несколько фашистов и среди них два офицера из немецкого гарнизона собираются ехать в деревню Пасынки. Там пасека и девки, с которыми можно «развлечься». Решено было уничтожить фашистов. На выполнение этого задания отправились Куликов с Сапожником и еще три человека. А утром во всей округе стало известно, что в Лукомлю с «увеселительной прогулки» возвратился всего, один немецкий офицер, да и тот еле-еле добрался, обливаясь кровью. Перед смертью он только и успел прохрипеть:
— Партизан…
Через несколько дней мы возвращались в Липовец и, зайдя по дороге в Амосовку, узнали, что рядом на хуторе находится начальник таранковичской полиции Зубрицкий. Пока я проводил беседу с крестьянами, Перевышко с товарищами врасплох напал на полицаев. После короткой перестрелки он пробился к хате, в которой был Зубрицкий, но ворваться в нее (а Перевышко был способен на такой отчаянный поступок) не успел: полицаи (их было много на хуторе) начали стрельбу с другой стороны. Перевышко смог только бросить гранату в окно хаты и другую гранату в полицейских, чтобы обеспечить себе отступление.
К сожалению, Зубрицкий остался невредим. Услыхав стрельбу, этот «храбрец» залез под печку, только подошвы подкованных сапог торчали наружу. Граната разорвалась на кровати, и ни один ее осколок не коснулся предателя. Он пролежал в своем пыльном убежище до тех пор, пока подчиненные не помогли ему выбраться оттуда. Немало потом было смеху по деревням насчет храбрости Зубрицкого.
Да, конечно, сами по себе эти налеты не имели большого значения, однако они будили народ на борьбу, они показывали врагу, что советские люди не побеждены, что отдельные искорки партизанской борьбы скоро разгорятся в пламя всенародного пожара.
Отправка связных через фронт
Снова в Столбецком лесу
Возвратившись в Липовецкий лагерь, мы застали там Батю, который после боя с фашистами вынужден был уйти из-под Красавщины. Он одобрил работу, проведенную нами в Гурце и Симоновичах, и сказал, что в ближайшее время мне опять придется идти туда и возглавить отряд в Столбецком лесу, а сам он останется в Липовце. Но еще до этого нам было необходимо отправить связных на Большую землю. Время идет, связи с Москвой все нет и нет. И вот мы выбрали надежных людей, физически выносливых и сильных: капитана Архипова, старшего лейтенанта Коцарева и старшего сержанта Жулина, достали для них лыжи, снабдили продовольствием с таким расчетом, чтобы его хватило на всю дорогу и до самой линии фронта им не приходилось бы заглядывать в населенные пункты. Батя передал с ними донесение о нашей работе и наградные листы на тех партизан, которые отличились в борьбе с врагом. Среди прочих и я был представлен к ордену Ленина. Лично от себя я просил Архипова разузнать через политуправление о судьбе моей семьи: находится ли она на Большой земле. Я должен был сопровождать Архипова и его товарищей до Московской Горы, а оттуда, не заходя обратно в Липовец, повернуть на Лукомльское озеро, к месту моего нового назначения.
В последний день, 28 ноября, Черкасов подсел ко мне на нары. В землянке было тихо, только Перевышко посапывал рядом, с головой закрывшись по своей привычке полушубком.
— Задумался, Антон Петрович? Завтра прощаться будем.
— Да, ухожу, Василий Алексеич… Снова прощаться.
Мы с ним старые товарищи. Сколько у нас общих друзей, сколько общих воспоминаний!.. А теперь в Липовецком лагере мы еще лучше сошлись с ним, еще больше сроднились. Характер его располагал к этому — русский характер, сердечный, душевный, простой. И вот расставаться…
— Закурить бы, Антон Петрович… Сашок, табак есть?
Но Перевышко отвечал тем же ровным посапыванием.
— Ах, сурок, спит.
— Не буди, Василий Алексеич, у меня есть.
Свернули. Опять — тишина и легкие струйки махорочного дыма в воздухе.
— Помнишь Разгонова? — опросил я.
— Ну, как же!..
— Ведь если бы не он, я бы, пожалуй, и в армии не остался. Кончил срок службы, надо демобилизоваться, а он говорит: «Останешься». — «Как так?» — «А что, говорит, ты думаешь — одним старикам служить? Надо и молодым». — «Да у меня — семья». — «Ну и что?» — говорит. Так и оставил.
— Ох, как мне от него один раз попало! — вспомнил в свою очередь и Черкасов. — И за что? Я сто граммов водки выпил перед занятиями. Потом — три стакана крепкого чаю. Незаметно. Занятия идут хорошо, самому нравится… И надо же было появиться Разгонову!.. Команда, рапорт. Я немного замялся, но занятие окончил как следует. А он мне потом говорит: «Как вы осмелились пить?» — «Да я не пил, товарищ комиссар!» — «Неправда, я знаю, что пили». — «Да ведь незаметно». — «Заметно. По глазам вижу». И что интересно: жена у меня тоже по глазам замечает.
— Верно! — подхватил я. — И у меня жена замечает.
— Можно подумать, что мы с тобой пьяницы.
— Нет. В том-то и дело, что у пьяницы этого не заметишь.
И бесконечный клубок воспоминаний продолжает разматываться все дальше.
— Огурцова помнишь, Сергея Яковлевича?.. — напоминаю я. — Мы, кажется, влюблены были в него. Как он говорил! Слушаешь, словно галушки глотаешь… Ну что смеешься? Иного слушаешь, словно подавился галушкой, а этого слушать было одно удовольствие! Верно ведь?.. И человек замечательный. Заботливый… Я еще был курсантом, когда у меня родилась первая дочка. Получил письмо от жены, и самому странно: я — и вдруг отец! Молодой еще. Сергей Яковлевич вызывает…. Узнал он, что ли? Расспрашивает об учебе, о семье. Я все рассказал, письмо показал. Смеется, поздравляет, называет папашей. Мне как-то неловко. Он спрашивает: «Навестить, наверно, хочется?» — «Конечно». — «Ну, подожди, я поговорю с командиром полка». И устроил мне отпуск… Еду. А поезд идет медленно, остановок много… Вот бы, кажется, выскочил и побежал! Добрался. Смотрю на девочку — маленькая, красненькая. Ну чем она на меня похожа? А ведь говорят, что похожа, — и жена, и мать. «Вся, говорят, в тебя». Я подошел к зеркалу: на нее посмотрю, на себя посмотрю — нет!.. А они смеются: «И бровки такие, как у тебя, и носик, и ротик так же кривит». А где уж там брови! — ниточки какие-то серебряные. И носик — пуговка. Ну, да разве в этом дело? Похожа, не похожа… Моя — и все! На руки возьму — и страшновато (ведь какая хрупкая!), и радостно. Положу на нее буденовку: она ее обхватывает и ручками и ножками. И уж мне кажется, что она все понимает, только сказать не может. «Гу… гу!» Смешно… Да…