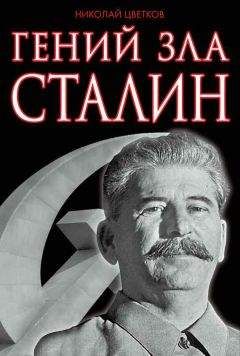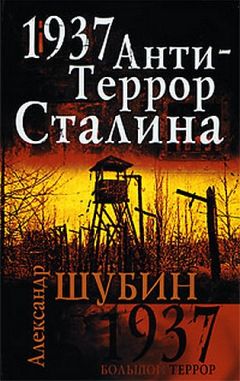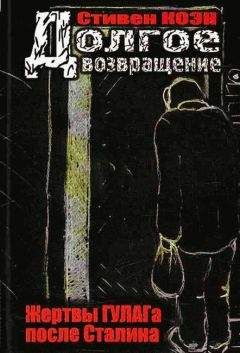Альберт Шпеер - Шпандау: Тайный дневник
24 апреля 1947 года. Разговаривал с Гессом. Он остается в камере, пока все мы выходим на прогулку. Как и Гитлер, когда положение стало ухудшаться, он создал собственный мир, далекий от реальности. И мы, так же, как было с Гитлером, уважаем его выбор, хотя бы потому, что его приговорили к пожизненному заключению. Иногда у меня возникает ощущение, что роль заключенного всегда была его предназначением. С его аскетической внешностью, глазами, временами безумно сверкающими из темных глубоких глазниц, он, став заключенным, может опять быть законченным эксцентриком, каким был, когда столь необычно попал во власть. Теперь он наконец может играть мученика и шута, проявляя обе стороны своей личности.
5 мая 1947 года. На некоторое время нас перестали ограничивать в переписке. Мы можем писать и получать столько писем, сколько нам хочется. Почти год назад моей жене удалось вместе с детьми переехать из Гольштейна в дом моих родителей в Гейдельберге. Она пишет, что все относятся к ней с сочувствием. Возможно, отчасти потому, что ее семья тоже пользовалась большим уважением в городе. Недавно учитель Альберта сказал в классе: «Вы все знаете, что случилось с отцом одного из вас. Поэтому я хочу, чтобы вы помогали и поддерживали его».
Тем не менее, всей нашей семерке ясно, что из всех жен моей жене тяжелее всех. Семью Шираха поддерживают их американские родственники; у Нейратов осталось их имение; зять Дёница находится в Лондоне и может помочь. Только моя жена совсем одна, и вдобавок ей нужно заботиться о шестерых детях.
6 мая 1947 года. Бывают дни, когда Гесс кажется преображенным. Тогда он тоже выходит в сад. Сегодня мы гуляли вместе, и он с лукавым видом рассказал мне о своем полете в Англию. «Я еще не говорил вам, что сказал мне Гитлер на прощание за два дня до отлета? «Летите осторожно, Гесс!» Он имел в виду перелет из Мюнхена в Берлин на «Юнкерсе-52». Потом Гесс стал хвастливо рассказывать, как к нему относились в Англии. По его словам, у него были две комнаты с ванной и собственный сад. Каждый день за ним приезжали на машине, чтобы вывезти на прогулку. Комендант играл ему Моцарта и Генделя. Кормили хорошо, было много баранины и пудингов, а на Рождество подавали жареного гуся. В его распоряжении был специальный винный погреб. Но в еду подмешивали бензин и прочую гадость, добавил он, и в его глазах снова появился этот беспокойный, безумный взгляд.
У Гесса по-прежнему возникают подобные мысли. Недавно он попросил меня использовать его порцию сахара. «В него подмешали препарат, вызывающий диарею». Вчера он спросил, как сахар подействовал на меня. «Как ни странно, герр Гесс, на меня он оказал совершенно противоположное действие. От вашего сахара у меня случился страшный запор». Он с раздражением забрал у меня сахар.
10 мая 1947 года. Читал статью Дугласа М. Келли, который проводил психиатрические исследования во время процесса. Он пишет, что у Геринга фактически было два лица. Говоря с Келли, он принижал Гитлера. Он заявил, что вступил в национал-социалистическую партию не из-за речей Гитлера или партийной программы — им двигало желание пробиться наверх. После поражения в войне он был убежден, что власть завоюет та или иная партия правых радикалов. Из пятидесяти таких организаций он, в конце концов, выбрал партию Гитлера, потому что она была еще слишком незначительной, и он мог занять в ней видное место. Геринг утверждал, что восхищался организационными талантами Гитлера и его способностью очаровывать людей, но что он никогда не любил Гитлера. Его восхищение было спокойным и исключительно функциональным. В разговорах с Келли Геринг хвастал, что он единственный, кто все время спорил с Гитлером.
С нашей же точки зрения Геринг всегда защищал национал-социализм. Он хотел использовать Нюрнбергский процесс как первый шаг на пути создания легендарного образа гитлеровской эпохи и добивался этой цели, призвав все свое красноречие. Иногда он доходил до того, что требовал от нас, чтобы все мы избрали мученическую смерть ради будущей славы нацизма. Однажды до начала процесса мы стояли в тюремном саду, и Геринг с важным видом расхаживал перед нами, будто в самом деле обладал властью второго человека в государстве.
— Через сто лет Гитлер снова станет символом Германии! — заявил он. — Разве Наполеон, Фридрих Великий или царь Петр действовали по-другому? Все зависит от нашей солидарности. Все мы когда-нибудь умрем. Но не каждый день предоставляется возможность войти в историю с ореолом мученика. Сейчас немцы этого не признают, но они, безусловно, знают, что лучше всего они жили при Гитлере. Очевидно одно: вы, другие, можете делать что хотите; но мои кости будут лежать в мраморном саркофаге, а если костей не останется, их заменят чем-нибудь другим, как делают со святыми!
Против воли его слова произвели на меня впечатление не только потому, что он говорил с таким чувством, но и потому, что в истории действительно часто так происходит. Только на следующий день в разговоре с Функом, Ширахом и Фриче я сказал:
— Сейчас он раздувается от важности. Но ему следовало бы проявить героизм, когда он увидел, что мы проигрываем войну. Если бы он хоть раз возразил Гитлеру! Он все еще был самым популярным человеком в Германии и официально вторым человеком в государстве. Но он был ленив, и никто так не заискивал перед Гитлером, как он. А теперь он делает вид, что жизнь ничего для него не значит.
Через несколько дней Ширах передал мне ответ Геринга: «Геринг недвусмысленно предупреждает, чтобы вы оставили Гитлера в покое. Он просил передать, что обвинит вас, если вы втянете фюрера». Я ответил более дерзко, чем мне было свойственно или чем я чувствовал в тот момент, что мне плевать на пустые угрозы Геринга и пусть он идет к черту.
11 мая 1947 года. Сегодня провел несколько часов во дворе: мы лежали на траве под кустами цветущей сирени. Я решил проходить не меньше десяти километров в день, чтобы поддерживать физическую форму.
Хочу добавить по поводу Геринга: солидарность, на которой он настаивал, начала рассыпаться, когда Ширах заявил, что собирается осудить Гитлера за предательство немецкой молодежи. Фриче, Функ и Зейсс-Инкварт тоже отреклись от Гитлера; даже Кейтель колебался, раздумывая, не следует ли сделать заявление о своей виновности. Он отказался от этой идеи только после уговоров Геринга и Дёница. Франк, генерал-губернатор Польши, осудил весь режим; Папен и Шахт вообще всегда изображали себя жертвами обмана.
Однажды гнетущая атмосфера в Нюрнберге резко изменилась. Помню, мы сидели на скамье подсудимых и ждали, пока судьи долго совещались. Именно тогда мы услышали, что Черчилль выступил с резкой критикой Советского Союза, назвав его экспансионистские амбиции агрессивными, а сталинские методы руководства — жестокими и бесчеловечными. А ведь это был тот самый Советский Союз, чьи представители нас судили. Поднялось страшное волнение. Гесс внезапно перестал изображать амнезию и напомнил нам, как часто он предсказывал, что наступит поворотный момент, который положит конец этому процессу, реабилитирует всех нас и восстановит нас в своих званиях и должностях. Геринг тоже был вне себя; он хлопал себя по ляжкам и гудел: «Историю не обманешь! Мы с фюрером всегда это предрекали! Рано или поздно коалиция развалится». Потом он предсказал, что процесс скоро закроют.