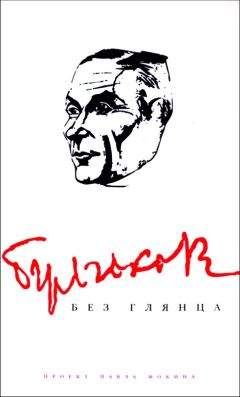Павел Фокин - Достоевский без глянца
Под влиянием этой вечной угрозы перейти из этой жизни в другую, неведомую, у него образовался какой-то панический страх смерти, и смерти страшной, именно в образе его болезни. Проходил припадок, и он становился необыкновенно жив и говорлив. Однажды я застал его именно в то время, когда он только что освободился от припадка. Сидя за маленьким своим столом, он набивал себе папиросы и показался мне очень странным — точно он был пьян. «Не удивляйтесь, — глядя на меня, сказал он, — у меня сейчас был припадок».
Всеволод Сергеевич Соловьев:
Мне хотелось узнать что-нибудь достоверное об ужасной болезни — падучей, которою, как я слышал, страдал Достоевский, но, конечно, я не мог решиться даже и издали подойти к этому вопросу. Он сам будто угадал мои мысли и заговорил о своей болезни. Он сказал мне, что недавно с ним был припадок. — Мои нервы расстроены с юности, — говорил он. — Еще за два года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь. Рассказать я не могу этих отвратительных ощущений; но живо их помню; мне часто казалось, что я умираю, ну вот, право — настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно — как только я был арестован — вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла, ни в пути, ни на каторге в Сибири и никогда потом я ее не испытывал — я вдруг стал бодр, крепок, свеж, спокоен… Но во время каторги со мной случился первый припадок падучей, и с тех пор она меня не покидает. Все, что было со мною до этого первого припадка, каждый малейший случай из моей жизни, каждое лицо, мною встреченное, все, что я читал, слышал, — я помню до мельчайших подробностей. Все, что началось после первого припадка, я очень часто забываю, иногда забываю совсем людей, которых знал хорошо, забываю лица. Забыл все, что написал после каторги; когда дописывал «Бесы», то должен был перечитать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц…
Софья Васильевна Ковалевская:
Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок. Впоследствии я слышала другую, совсем различную версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому подвергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга; которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет.
Как бы то ни было, вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.
Говорили они о том, что обоим всего было дороже, — о литературе, об искусстве и философии; коснулись наконец религии.
Товарищ был атеист, Достоевский — верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.
— Есть Бог, есть! — закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.
— И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! — закричал я, и больше ничего не помню.
— Вы все, здоровые люди, — продолжал он, — и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!
Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели как замагнетизированные, совсем под обаянием его слов. Вдруг, внезапно, нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок.
Николай Николаевич Страхов:
Припадки болезни случались с ним приблизительно раз в месяц, — таков был обыкновенный ход. Но иногда, хотя очень редко, были чаще; бывало даже и по два припадка в неделю. За границею, то есть при большем спокойствии, а также вследствие лучшего климата, случалось, что месяца четыре проходило без припадка. Предчувствие припадка всегда было, но могло и обмануть. В романе «Идиот» есть подробное описание ощущений, которые испытывает в этом случае больной. Самому мне довелось раз быть свидетелем, как случился с Федором Михайловичем припадок обыкновенной силы. Это было, вероятно, в 1863 году, как раз накануне Светлого воскресенья. Поздно, часу в одиннадцатом, он зашел ко мне, и мы очень оживленно разговорились. Не могу вспомнить предмета, но знаю, что это был очень важный и отвлеченный предмет. Федор Михайлович очень одушевился и зашагал по комнате, а я сидел за столом. Он говорил что-то высокое и радостное; когда я поддержал его мысль каким-то замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, показывавшим, что одушевление его достигло высшей степени. Он остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты.
Припадок на этот раз не был сильный. Вследствие судорог все тело только вытягивалось да на углах губ показалась пена. Через полчаса он пришел в себя, и я проводил его пешком домой, что было недалеко.
Много раз мне рассказывал Федор Михайлович, что перед припадком у него бывают минуты восторженного состояния. «На несколько мгновений, — говорил он, — я испытываю такое счастие, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь».