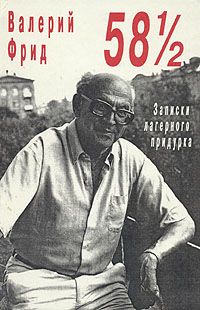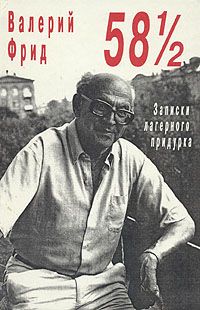Хэди Фрид - Осколки одной жизни. Дорога в Освенцим и обратно
Однажды эсэсовец выдал нам открытки и велел написать домой нашим семьям. У нас не оставалось семей, мы теперь уже знали, как тщательно «петушиные перья» очистили город. К этому времени Венгрия была свободна от евреев. Поэтому приказ нас насторожил, и мы обсудили его между собой. Это, должно быть, ловушка.
— Они хотят узнать, не прячутся ли где-нибудь евреи. Они хотят, чтобы мы написали и выдали их адреса, — сказала Дора.
— Ты права, мы не будем писать.
— Так оно лучше. Тот, кому мы напишем, попадет в беду. Беда еврею, если его друг находится в Освенциме.
— Но тогда мы можем отомстить кому-нибудь, кто плохо поступил с нами, — предложила Сюзи.
— Как насчет госпожи Фекете? Она добилась, чтобы мы отдали ей свои деньги и драгоценности, а потом отрицала, что получила их, — сказала я.
Мы вспоминали то одного, то другого венгра, который донес на нас или плохо с нами обращался, и решили написать им всем. Было приятно думать, что и у них теперь возникнут проблемы. Только много времени спустя, после окончания войны я узнала цель этих открыток: показать внешнему миру, что мы живы и о нас заботятся. Но это не значит, что мы не были в чем-то правы. Однажды мы неожиданно услышали, как кто-то мурлычет бетховенскую «К Элизе».
— Что это? — спросила я. — Кто поет?
— Элла, — сказала Ливи.
Элла была девушка моего возраста, крепкая и артистичная. Она прекрасно играла на фортепьяно и любила рисовать. Теперь она ходила между рядами нар, напевая. Мурлыкание перешло в тихое проникновенное пение, а вскоре она уже пела полным голосом.
— Она сошла с ума, — сказал кто-то.
Я подошла к ней и увидела, что глаза у нее горят.
— Что случилось, Элла? — спросила я.
— Я жду маму. Я обещала ей сыграть. Я должна практиковаться, чтобы быть в хорошей форме. Она любит «К Элизе». Знаешь, ее зовут Элиза. Она будет так счастлива. Теперь у меня это хорошо получается. Вот послушай.
— Но, Элла, здесь нет пианино, и твоя мать не сможет придти.
— Мама придет, я знаю. Ты будешь переворачивать мне ноты? Пойдем к пианино. И она показала в конец коридора.
Элла повернулась к «пианино» и опять начала петь. Все смотрели на нее с ужасом. Что будет? Никто не пытался остановить ее. Она продолжала петь. Через час явились двое эсэсовцев и забрали ее.
— Они поведут ее в газовую камеру, — сказала охранница блока Аня.
Я подождала, пока другие успокоятся, и отправилась в комнату охраны, чтобы узнать что-нибудь от Ани. Комната охраны была для нас запретной территорией, и когда кому-нибудь из нас удавалось заглянуть туда, мы приходили в изумление от того, что мы видели. Целые тарелки супа, кучи одежды, губная помада, зеркальца, гребни и тысячи других вещей, которые, мы помнили, когда-то существовали в другой жизни. Как могли они оказаться здесь? Мы не могли себе этого представить, и прошло много времени, прежде чем у меня установились хорошие отношения с одной из охранниц, и я осмелилась спросить ее.
Но единственное, что я хотела узнать сейчас, — это об Элле и газовой камере. Мне повезло.
Аня была в хорошем настроении и не выгнала меня. То, что я узнала от нее, не укладывалось в голове. Теперь я поняла, что самое главное — попытаться выбраться из Освенцима, как только представится возможность. Рано или поздно все, кто останется здесь, закончат в трубе.
Возможность выбраться отсюда существовала всегда, так как Германия нуждалась в рабочей силе. Аня не знала, какая там работа, но уверяла меня, что все лучше, чем сидеть в Освенциме, бок о бок с крематорием. Она сама надеялась когда-нибудь выбраться, когда снова потребуются люди для работы. Когда это произойдет, выстроят весь блок и эсэсовцы выберут, сколько им надо. После этого оставшихся отправят в газовую камеру. Аня также рассказала мне, что коменданту иногда нужны были добровольцы для работы вне лагеря, и таких выбирают из различных блоков по утрам. Девушки-добровольцы получали лишнюю тарелку супа в качестве вознаграждения. Я поблагодарила Аню за эту информацию и ушла от нее, довольная, что узнала так много.
Вернувшись на нары, я рассказала Доре все, что узнала. Затем мы пошли к «блоковой» предложить себя для работы на следующий день, если понадобится.
На следующий день, когда эсэсовцы явились, чтобы отобрать несколько девушек для уборки помещения охраны, нам с Дорой удалось попасть в их число. Вместе с несколькими другими нас вывели из бараков и долго вели, пока мы не подошли к воротам с большим плакатом «Арбайт махт фрай» («Работа дает свободу»). Я подумала, что это, может быть, правда: я шла работать и чувствовала себя свободной, было легко на сердце, несмотря на то, что нас сопровождали эсэсовцы. Уже одно то, что не надо без дела целый день лежать на нарах, значило много, и мне уже представлялась дополнительная тарелка супа.
Сразу за воротами находилось помещение СС. Нам выдали ведра и тряпки и велели мыть полы и мебель. Ни щеток, ни мыла. Я принесла воду и начала тереть грязные доски, но как я ни старалась, они не отмывались. Гвозди впивались в руки, и я попросила разрешения поискать обломки прутьев. Это тоже не помогло. Грязь не отмывалась. Я сидела в отчаянии, разглядывая доски, когда вошел эсэсовец. Он посмотрел и стал ругать меня и «всех избалованных еврейских свиней, которые не хотят работать». Бесполезно было доказывать, что невозможно избавиться от въевшейся грязи без щеток и мыла. Он кричал и ругался, и не было другого выхода, кроме как начать все сначала.
Около полудня у нас был небольшой перерыв, пока выдавали дополнительный суп. Затем ничего не оставалось, как продолжать наш сизифов труд. Я работала, пока громкоговоритель не объявил: «Фрайер абенд», конец рабочего дня. Давно исчезло чувство свободы, которое я испытывала, идя утром на работу. Плакат над воротами, казалось, издевался над нами, когда охрана из СС повела нас обратно в лагерь.
По дороге мы проходили мимо берез. Казалось нереальным, что мы видим деревья после того, как долго прожили там, где не было никакой зелени. Возможно, что мы пробыли в Освенциме не так долго, хотя мне казалось — вечность. Листья березы были еще нежными и зелеными.
Я отломила маленькую веточку и стала гладить похожие на сердечки листья. Они говорили со мной, успокаивали и вселяли надежду. Казалось, они говорят: «Смотри на нас. Мы родились заново. Мы свободны. Кончилась длинная зима. Жизнь начинается снова. Впереди прекрасное лето». Может быть, может быть, я тоже смею надеяться? Я не могла бросить веточку, я чувствовала необходимость принести ее в лагерь. Мне хотелось сохранить листочки и показать другим, чтобы их зелень заговорила со всеми, принесла всем надежду. Но как это сделать? Я знала, что нас будут обыскивать при входе и что не разрешалось ничего проносить снаружи. Я была уверена, что мне не разрешат пронести даже один листочек. Я спрятала крошечную веточку в подкладке своего пальто и для верности положила еще листочек в рот. Мы подошли к входу в лагерь. Охранник из СС подошел, чтобы обыскать меня, он обшарил мою одежду, провел руками по телу. Я затаила дыхание. Веточка не была обнаружена. Я прошла за ворота и перевела дух. Удалось! Стоя в строю на перекличке, я не могла удержаться и прошептала ближайшей ко мне девушке, что могу показать что-то потрясающее. К тому времени, когда окончилась перекличка и мы вернулись на свои нары, сработал устный телеграф и десятки девушек собрались вокруг меня посмотреть, что я покажу.