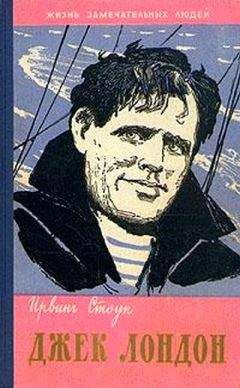Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза
Мы вместе пришли в гости к Олегу Целкову. У Целкова в мастерской стоял маленький бильярд, на котором мы играли в ожидании обеда. Толя и Олег потешались над моей неумелостью. Сами они играли хорошо, изящно посылали немыслимо трудные шары в лузу. Мы ждали Мишу Мейлаха. С ним мне предстояло тоже впервые увидеться после тринадцати лет, из которых четыре он провел в страшном пермском лагере. Миша позвонил откуда-то с другого конца Парижа, и Олег объяснял по телефону, как добраться до его мастерской. "Выйдешь на станции "Репюблик", — говорил Олег. — Записывай: "рэ", как русское "я", только перевернутое. "Е", как русское "е". "Пэ", как русское "рэ"…" На другом конце провода автор диссертации о провансальских трубадурах, Миша, покорно записывал: ""Бэ", как русское "вэ"…"
После Парижа Найман разъездился. Многочисленные друзья стали приглашать его и в Европу, и в Америку. Приезжал он и к нам. Я устраивал ему какие-то выступления. Как и большинство моих русских гостей, он не понимал здешней аудитории и не умел приготовить интересную лекцию, полагался на остроумие. Остроумие не всегда переводится на иностранный язык. Получалась непоследовательная, сбивчивая каша из банальностей и непонятных публике анекдотов. Но, несмотря на то что говорил он плохо, принимали его хорошо, с доброжелательным любопытством глазели на близкого друга великой Ахматовой. А я так же, как в Париже, заслушивался его живыми, артистично оформленными — с завязкой, кульминацией, эффектной концовкой — застольными историями.
Это был пик перестройки, моды на горбачевскую Россию, в Норвичской летней школе от студентов отбоя не было, и мне не стоило особого труда пристроить туда Наймана. Договорились, что он будет вести ахматовский семинар. Филологического образования у него нет никакого, и ему только казалось, что он знает, как это делается. Для начала он прочитал две лекции, в обеих плел нечто несусветное. Одна была посвящена разбору коротенького ахматовского стихотворения 1911 года "Смуглый отрок бродил по аллеям…". Толя отметил, что в стихотворении семь раз встречается слог "ле", совпадающий с французским артиклем "les", стало быть, Ахматова таким образом намекает на то, что юный Пушкин испытывал влияние французов. Он как-то долго и путано ломился к этому безумному выводу. В другой лекции он бормотал что-то корявое насчет того, что настоящий символизм — это акмеизм (слышал от Жирмунского?), а настоящий акмеизм — это символизм. Надо сказать, что через некоторое время он, видимо, начал догадываться, что так дело не пойдет. Однажды — это было уже следующим норвичским летом — он предложил мне прогуляться и попросил во время прогулки объяснить постструктурализм. Он полагал, что это и впрямь можно узнать за полчаса. Я пересказал ему кое-как кое-что из Барта. По-моему, он остался недоволен.
Если в первое лето Толя приехал в Норвич со своей милейшей Галей, то на следующее они привезли и восемнадцатилетнего сына, похожего на симпатичного пуделя-шалопая, а на третье приехали с сыном, дочерью и мужем дочери. В окружении семьи мне Найман нравился больше всего. Он как-то старел среди чад своих, исчезали черты былого хорошенького мальчика, получался заботливый пожилой еврей. Но тут разыгрывался еще вот какой сюжет. Общительный, веселый Найман, его умная и от природы доброжелательная жена, славные дети в общем-то всем в Норвиче пришлись по душе. Но как раз в это время среди норвичских преподавателей начинался страшный раскол. По существу, это был раскол между старшим поколением, из "ди-пи", средний возраст которых был за семьдесят, и нашим, в среднем лет на двадцать-двадцать пять младше. Причины раскола были вполне академические! — старики преподавали по старинке, переучиваться не хотели, современных студентов не понимали и в конечном счете отпугивали. (Нынче и я уже собственной шкурой чувствую правоту Генри Адамса: "Нет ничего утомительнее, чем престарелый педагог".) Шли бурные преподавательские собрания, решения принимались в пользу составлявших уже большинство младотурок, но и старики не сдавались, обращались с петициями к администрации и т. п. Старики были все люди порядочные, интеллигентные, и антисемитского мотива в их борьбе с младшим поколением из "еврейской эмиграции" не было. За одним исключением. Самой темпераментной личностью среди стариков (хотя по возрасту ближе к нашим) была женщина с двумя фамилиями, причем обе настолько часто встречаются в биографиях наших великих поэтов и в истории России, что назову ее здесь условно "Нащокина-Столыпина". Знакомство с Нащокиной-Столыпиной могло хоть кого отучить от сопливых иллюзий насчет "породы" и "дворянской косточки". В кости она была широка и крепка. Коренастая, коротконогая, с часто багровеющим от гнева круглым лицом, она больше всего напоминала мне злых училок и пионервожатых. В летнюю школу ее наняли в незапамятные времена по рекомендации мужниного дяди, архиепископа зарубежной православной церкви. Она была автором книги "Духовность в русской литературе с древнейших времен до наших дней" (96 страниц, формат с две пачки сигарет, шрифт крупный), но, так как такое количество духовности для студентов на два месяца не размажешь, ее отодвинули от преподавания, сделали ответственной за культурно-массовые мероприятия, отчего сходство с пионервожатой усилилось. Каждый день мы находили на столах в столовой ее объявления о сегодняшних мероприятиях. Помещение, в котором проходили концерты, спектакли и репетиции, называлось "Webb Hall". Выросшая вдали от родины и latigue maternelle, она наивно транскрибировала эти слова как "Уеб Хол": "Репетиция церковного хора в 7 ч. в Уеб Холе" или, игривее, "Встретимся в Уебе в семь!". Бурная Нащокина-Столыпина грудью встала против еврейского засилья. Затащив кого-нибудь из стариков в свою комнату в преподавательском общежитии и нарочно оставив дверь открытой, она кричала своим пронзительным комсомольским голосом: "Почему они не приглашают национальных русских писателей? Почему одних евреев?" Гостями летней школы в то лето были Окуджава, Искандер и В.В. Иванов. И Найман. Но как раз с Найманом для Нащокиной-Столыпиной все было непросто. Как раз он исправно ездил с нею по воскресеньям в церковь, усердно, со знанием дела молился и вообще то и дело норовил по-русски обняться и троекратно расцеловаться. В такие минуты он был самым своим. Но вот она входила в столовую и видела, как проросла столовая побегами черноглазого, кучерявого Найманова семейства. В глазах Нащокиной-Столыпиной промелькивало безумие. Когда психологи ставят такие жестокие опыты над крысами, крысы сходят с ума и пытаются загрызть сами себя.
Встретившись с Найманом вновь в Париже, принимая его в Америке, я радовался, что он пишет не только свои безнадежные стихи, но и прозу. На мой взгляд, тут у него есть несомненный талант. Не гениальность, когда до конца и не поймешь, в чем же тут дело, как у Петрушевской или друга моего Алешковского, но все же совершенно необходимый для прозы дар и умение рассказать историю. Дар интереса к людям, наблюдательности, памяти на характерное. Талант Наймана очень похож на довлатовский и соразмерен довлатовскому. Он подарил мне свои "Рассказы об Ахматовой". Я с удовольствием читал, а вот по прочтении почувствовал, что постепенно накопился осадок. К интересному тексту была подмешана доза чего-то недоброкачественного. Мне бы вполне хватило честной записи ахматовских разговоров, как у Чуковской или Ардова, как у Эккермана, в конце концов: "я спросил… господин Гете на это ответил…" У Наймана важным событием оказывалось, что у Ахматовой однажды на прогулке сполз чулок. Я даже подумал, что это провокация наймановского подсознания — в поэме "Феликс" Бродский пишет про сексуально одержимого мальчика: "При нем опасно лямку подтянуть, а уж чулок поправить — невозможно". Там же, в "Рассказах", Найман пишет о "Второй книге" Н.Я. Мандельштам: "Главный ее прием — хорошо дозированное растворение в правде неправды, часто на уровне грамматики, когда нет способа выковырять злокачественную молекулу без ущерба для ткани". Мне показалось, что вот так же исподволь Толя вздувает себя до размеров равного Ахматовой собеседника, а чтобы это было не так уж очевидно, чуть-чуть опускает Ахматову, Бродского и других своих персонажей. Вообще это довольно тонкая тактика. Например, он, как бы просто припомнив смешное, цитирует из издательского договора, что он и Ахматова будут переводить Леопарди "солидарно". (Хотя я думаю, что это могло показаться смешным человеку нашего поколения, привыкшему слышать слово "солидарность" только в агитпроповском контексте, но не Ахматовой с ее знанием французского и латыни.) Забавная юридическая формула действует как прививка, и читатель может не заметить, что действительно смешно другое — "тогда мы с Ахматовой переводили Леопарди". Благородной эккермановской дистанции, знания своего места в "Записках" начисто нет. "Я прочитал Ахматовой свою новую большую поэму…" То-то осчастливил. Ему не повезло, что он, с его честолюбием, в нежном возрасте попал в среду, где писание стихов считалось высшим занятием. Еще ему не повезло, что гуманитарно мало образованный он попал в среду людей, знающих много и глубоко: языки, литературу, историю, философию. Болезненное честолюбие не позволяло ему просто набираться ума-разума. От природы сообразительный и артистичный, он легко имитировал культурность. К тому же миловидный мальчик всем нравился в этом, в основном дамском, кругу. Он научился держаться на равных. С годами и сам поверил, что так оно и есть[26]. Как это случается со многими, Толя в небрежении держал свой подлинный дар — рассказчика-бытописателя, убедил себя в том, что у него есть дар поэта, романиста. "Наглая попытка пролезть в следующее по классу измерение", как писал Набоков. Довлатов был умнее, он рано перестал вымучивать из себя стихи и романы, работал с тем, что Бог дал. Но способность к суровой самооценке, к мужественным решениям — это, небось, тоже генетика. Из гиганта Довлатова можно было выкроить трех миниатюрных Найманов.