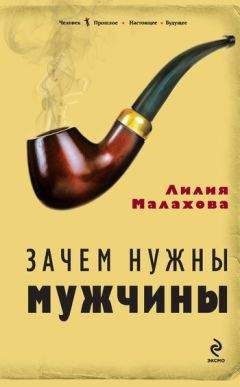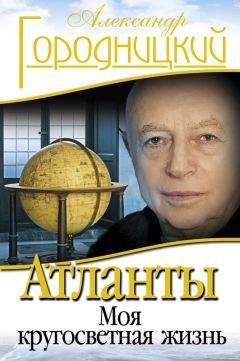Александр Городницкий - «Атланты держат небо...». Воспоминания старого островитянина
Кончались 40-е годы, о мрачной оборотной стороне которых я тогда не догадывался. Уже шла вовсю «борьба с космополитами», предвещая в недалеком будущем дело врачей. Уже были преданы анафеме Ахматова и Зощенко, Шостакович и Мурадели. Снижали послевоенные цены, но испуг оставался привычным выражением человеческих лиц. Что же делать… У нас не было другого детства и юности. Для меня конец 40-х годов стал временем первых вполне платонических сердечных увлечений, горьких раздумий о своей неисправимой национальной неполноценности, мечтаний о будущем, где мне хотелось бы стать «настоящим мужчиной».
Характерно, что поэзия не занимала никакого конкретного места в моих жизненных планах – она как бы существовала сама по себе, не становясь в то же время самоцелью. Я в ту пору увлекался историей и даже собирался поступать на истфак в Университет. Свидетельством этого осталось интервью, взятое у меня как у «круглого отличника» каким-то незадачливым корреспондентом молодежной газеты «Смена» в девятом классе в 1949 году. Интервью вместе с фотографией попало на страницы газеты, откуда, много лет спустя, перекочевало в юбилейную книгу, посвященную шестидесятилетию газеты «Смена». В книге этой напечатаны «Атланты» и мое дурацкое давнее интервью, названное в духе того времени «Смело смотрим вперед», где я наивно заявлял, что собираюсь после школы в Университет.
Что еще занимало нас тогда? Ну, конечно, любовь. Для нас, питомцев мужской школы, девочки были инопланетянами. В восьмом классе у нас организовали кружок танцев, куда пригласили девочек из соседней 235-й школы. Борьба с «иностранщиной» и космополитизмом была в самом разгаре, поэтому фокстроты и танго, воплощавшие тлетворное разложение буржуазного Запада, были объявлены вне закона. Даже слова были изъяты из обихода. Когда на танцах, не более одного раза за весь вечер, играли все-таки танго или фокстрот, их стыдливо называли «медленный танец» и «быстрый танец». Строгие комсомольские патрули на школьных вечерах бдительно следили, чтобы никто не вздумал танцевать неприлично развратный «гамбургский фокстрот», считавшийся пределом грехопадения. В кружке танцев поэтому тщательно изучали «Русский бальный», «Падекатр», «Чардаш», «Краковяк» и другие мертворожденные бальные танцы. Единственным, кажется, утешением был вальс. Ему я обучился быстро. Считалось особым шиком закружить свою партнершу до такого состояния, чтобы у нее начала кружиться голова, и она, боясь упасть, старалась сама ближе прижаться. Умение танцевать в старших классах казалось нам столь же необходимым, как, например, умение читать.
Саша Малявкин, мой сосед по парте в девятом классе, переводившийся ненадолго в школу рабочей молодежи и успевший почерпнуть там изрядный опыт сексуальных навыков, регулярно ходил на танцы в клуб «Швейник» на Исаакиевской площади и постоянно дразнил наше любопытствующее воображение рассказами о своих победах. По этому поводу в подпольном классном журнале, который вел мой другой одноклассник Миша Капилевич, про Малявкина были написаны следующие исторические слова: «Хвастается, что познал женщину. Однако это свист». Про меня, кстати, Миша Капилевич – а он там давал всем весьма нелицеприятные характеристики – написал следующее: «Маленький, слабенький, а хищник».
Саша Малявкин учился со мной вместе в Горном институте, после чего он стал моим коллегой, геофизиком, несколько лет работал на аэромагнитной съемке в Антарктиде, застудил там верхушки легких и умер от рака легких, безвременно уйдя из жизни. Остальные одноклассники перебивались редкими поцелуями. Куда нам, тогдашним, тягаться с современными московскими и питерскими старшеклассниками, отягощенными ранним сексуальным опытом! Зато устраивались многочисленные ханжеские диспуты на тему «Дружба, товарищество и любовь», где прыщавые лбы-переростки и полногрудые девятиклассницы, стараясь не смотреть друг на друга, на полном серьезе обсуждали, может ли быть «чистая дружба» между юношей и девушкой.
И все-таки наступали волнующие майские дни, когда на подоконники окон выставлялись радиолы, и пробивалась первая светлая зелень на тополях, стоящих вдоль Мойки, и щемящие до сих пор сердце мелодии вальса «Память цветов» или фокстрота «Укротитель змей» манили наши неокрепшие души и тела смутным обещанием немедленного счастья. И бледные незагорелые ноги девчонки из соседнего дома в неожиданно короткой, не по тогдашней моде, юбке заставляли беспокойно просыпаться светлой ночью, отличавшейся от дня только тишиной и неподвижностью.
С той поры минуло более шестидесяти лет. От нашей школы мало что осталось. Сейчас в этом здании Институт Физкультуры и спорта им. Лесгафта. Мраморные доски с именами золотых медалистов, в том числе и с моим, сняты со стен и выброшены. Наши журналы «Проба пера», наши газеты «Наш голос» сгинули где-то в архивах, их, видимо, за ненадобностью тоже давно уже выкинули. Когда я смотрю на выпускную фотографию нашего десятого «Б» класса 236-й мужской школы Октябрьского района г. Ленинграда в 1951 году, то с грустью отмечаю, что многих уже нет на свете, а многие навсегда уехали в отдаленные края. В Нью-Йорке недавно умер мой многолетний сосед по парте Алик Камский. Один из самых моих близких друзей, упомянутый выше Толя Рыжиков, на которого учительница физики кричала: «Рыжиков, жук навозный, замолчите!» – живет теперь в Калифорнии, небольшом городке Пало-Альто неподалеку от Сан-Франциско. В прошлом году он закончил книгу воспоминаний с характерным названием «Впереди – прошлое». Книга эта вышла в Питере в издательстве моего друга, известного литератора Николая Якимчука, и в июне 2011 года была удостоена престижной литературной премии «Петрополь», которую вручают в музее А. С. Пушкина на Мойке, 12.
Нелепо от утренней боли
Искать утешенье во сне.
Товарищ мой Рыжиков Толя
Скучает в далекой стране.
В округе цветные пейзажи,
Сиянье воды голубой,
О калифорнийские пляжи
Стучит океанский прибой.
Товарищ мой Рыжиков Толя,
Ему нелегко одному.
С ним вместе учились мы в школе
Полвека и больше тому.
Листаем мы старые снимки
Далеких мальчишеских лет.
На снимках мы сняты в обнимку
С друзьями, которых уж нет.
Теперь они все – невидимки,
А мы еще живы пока.
Мы смотрим на старые снимки,
Сутулые два старика.
На раны насыплет нам соли
Волны настоявшийся йод.
Товарищ мой Рыжиков Толя
Нам водки в стаканы нальет.
И мы с ним поднимем стаканы
На этом крутом берегу
За класс наш, что в прошлое канул,
За Мойку в январском снегу.
Все мои школьные и институтские послевоенные годы, почти десять лет, мы с родителями прожили в доме на углу Мойки и Фонарного переулка, где, как уже упоминалось, в 45-м году, когда мы вернулись из эвакуации, отец получил комнатушку на самом последнем этаже в большой коммунальной квартире. Квартира эта когда-то принадлежала повару Мариинского театра, и раньше занимала ее одна семья. Но это было до революции. В наше же время тут размещались четыре семьи. Комната наша была несколько похожа на первую комнату в моем раннем детстве на Васильевском острове. Она была узкой и длинной, как трамвайный вагон. В одном торце ее была дверь, а в другом – окошко, выходившее на Мойку. Это окно и сейчас отчетливо видно снаружи, справа от него ангел, а слева – водосточная труба.