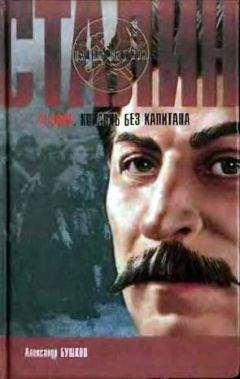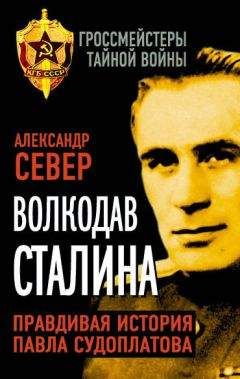Афанасий Фет - Воспоминания
Хотя отец Яков крестил меня и был постоянным духовником отца и матери, но отец смотрел на него неблагосклонно, по причине его пристрастия к спиртным напиткам, хотя о. Яков появлялся у нас в возбужденном состоянии только в отсутствие отца. Отец Яков усердно исполнял требы и собственноручно пахал и убирал, с помощью работника, попадьи и детей, свою церковную землю; но помянутая слабость приводила его к крайней нищете.
Помню, как во время великопостных всенощных, когда о. Яков приподымался на ногах и с поднятыми руками восклицал: «Господи, Владыко живота моего», — я, припадая головою к полу, ясно видел, что у него, за отсутствием сапог, на ногах женины чулки и башмаки.
Раз в год в доме у нас происходил великий переполох, когда заранее объявлялся день приезда дедушки Василия Петровича, из его села Клейменова, где он проводил лето. Зимою дедушка проживал в собственном доме в Орле, где пользовался общим уважением и вниманием властей.
Конечно, к этому дню выпаивался теленок на славу, добывалась дичина и свежая рыба, а так как он любил гольцов, то Марья Петровна Борисова присылала к этому дню живых гольцов, которых тотчас же пускали в молоко.
Так как буфетчик Павел (обучавшийся в Москве у Педоти) был в то же время и кондитер, то к назначенному дню, кроме всяких конфект, появлялись различные торты и печенья и назначались к столу наилучшие вина и наливки.
В назначенный день, часа за два до приезда дедушки, появлялась крытая, запряженная тройкой бричка, и из нее выходили камердинеры и рыжий, рябой, с бельмом на левом глазу, парикмахер Василий. Люди эти, немедля отставив от стены в гостиной кресла, раскидывали около нее складную деревянную кровать, накладывали на нее перину и сафьянный тюфяк и расстилали перед нею персидский коврик. Затем, убрав постель бельем, накрывали ее розовым шелковым одеялом; затем парикмахер приносил и ставил в передней на окно деревянный раскрашенный болван для парика, а камердинер ставил на подоконник в столовой серебряный таз с кувшином и такою же мыльницей. Часов в 11 из-за рощи появлялась двуместная, гнедым цугом запряженная желтая карета, на запятках которой стояли в треугольных шляпах и гороховых ливреях два выездных лакея. На последней ступеньке каменного крыльца ждал наш отец, и когда карета останавливалась, спешил к ее дверцам, чтобы помочь дедушке выйти. Мать стояла обычно или на верхней, или на второй ступеньке крыльца и старалась поймать руку дедушки, чтобы поцеловать ее; но каждый раз со словами: «Что это ты мать моя!» он обнимал и целовал ее в щеку. Нечего прибавлять, что мы считали за великое счастье поцеловать руку дедушки.
К приезду дедушки в дом съезжались ближайшие родные: два его племянника Петр и Иван Неофитовичи и родная племянница Анна Неофитовна. Любовь Неофитовна, по отдаленности места жительства, приезжала только крестить моих братьев и сестер вместе с дядею Петром Неофитовичем.
Так как дедушка был старинный охотник и, содержа псарню, в хорошую погоду выезжал в легком экипаже послушать гончих и посмотреть на резвость собак, то в случае пребывания его в Новоселках более суток, отец приглашал его послушать на ближайшей опушке леса наших гончих и посмотреть наших борзых.
Помню, как однажды запуганный заяц, пробираясь из лесу в другой, набежал на самые дрожки дедушки и на минуту присел под ними; а другой подбежал в том же направлении по меже, близ которой отец пешком стоял с своею свитою. Желая вовремя показать собакам зайца, отец бросился во всю прыть зайцу наперерез; но собаки раскидались, и заяц, помнится, ушел. Тем не менее сцена эта позабавила деда, и первыми словами его на крыльце к отцу было: «Как ты, брат, прытко побежал! У мужика куча детей, а он бегает как мальчик».
Изо всех, подобострастно выслушивавших суждения деда о разных делах и главное сельскохозяйственных, только один Петр Неофитович не стеснялся возражать старику, когда считал его речи неосновательными. На кроткие замечания отца, что дядя может рассердиться, Петр Неофитович отвечал: «А какое мне дело! Я ничего не ищу и кланяться ему не стану».
Во время объездов племянников дедушка заезжал на день к Борисовым, и бабушка Вера Александровна сказывала, что детям было строго приказано стоять в два ряда по ступенькам крыльца и низко кланяться, когда Василий Петрович будет по ним всходить.
Так как дедушка знал, что нам запрещены конфекты и вообще сладкое, то он и нас, и борисовских детей каждое утро оделял апельсинами.
В свою очередь, отец и мать отправлялись в Клейменово благодарить дедушку за сделанную честь.
* * *Между тем и Василий Васильевич, подобно Петру Степановичу, получил место сельского священника, и я снова пробыл некоторое время без учителя.
Но вот однажды прибыл новый учитель, высокий брюнет, Андрей Карпович. Это был человек самоуверенный и любивший пошутить. Прибыл он из дома богатых графов Комаровских, принимавших много гостей, почему Андрей Карпович любил повторять, что видел у Комаровских «сокращение света».
Если Петра Степановича и Василия Васильевича вне класса должно было считать за немых действующих лиц, то Андрей Карпович представлял большое оживление в неофициальной части своей деятельности. Правда, и это оживление в неурочное время мало споспешествовало нашему развитию, так как система преподавания «отсюда и досюда» оставалась все та же, и проспрягав быть может безошибочно laudo[75], мы ни за что не сумели бы признать другого глагола первого спряжения. Протрещав с неимоверной быстротою: «Корон, Модон и Наварин» или «Свевы, Аланы, Вандалы с огнем и мечом проходили по Испании», — мы никакого не отдавали себе отчета, что это такие за предметы, которые память наша обязана удерживать. Не помогало также, что, когда мы вечером на прогулке возвращались с берега реки между посевами разных хлебов, Андрей Карпович, слегка нахлестывая нас тонким прутом, заставлял твердить: panicum — гречиха, milium — просо.
Но наибольшую живость характера Андрей Карпович высказывал по отношению к Сергею Мартыновичу.
Почему-то оба эти совершенно здоровых человека вообразили себя чахоточными и, налив часть бутылки дегтем, заливали ее водою и, давши ей настояться на чердаке флигеля, пили утром и вечером по рюмке, уверяя, что это очень здорово. Андрей Карпович, будучи скрипачом еще в семинарии, привез с собою скрипку в футляре и сначала упражнялся по вечерам на этом язвительном инструменте один, но потом, сообразив, что играть вдвоем было бы и поладнее, и благозвучнее, подбил и Сергея Мартыновича на занятие музыкой. В кладовой нашлась моя скрипка, но без смычка. Тогда обратились к Ивану столяру, который устроил березовый смычок, вставив в него прядь волос, вырванных мальчишкой-конюхом из хвоста рабочей лошади. Канифоли у Андрея Карповича было довольно, а для своей скрипки Мартыныч прибегал к смоленому горлышку донской бутылки. Большого труда стоило Андрею Карповичу обучить Сергея Мартыновича тем двум единственным ладам, которые подпадали под его исполнение в неистощимой «барыне», этом цветке и вершине веселости русского лакея. Зато с каким наслаждением Сергей Мартынович каждый вечер волнообразно пускал свой смычок по этим двум нотам, в то время как смычок уносящегося в выспрь Андрея Карповича выдергивал из «барыни» самые отчаянные возгласы. Этот концерт только почерпал новые силы в окриках Андрея Карповича: «Валяй, валяй, Мартыныч!» При этом оба, и наставник, и ученик, страстно приникая левой щекой к скрипке и раздувая ноздри от удовольствия, с азартом подлаживались друг к другу, и в то время как качающийся смычок Мартыныча производил неизменное: ури-ури, — нарезающий и проворный смычок Андрея Карповича отхватывал: титирдити-титирдити.