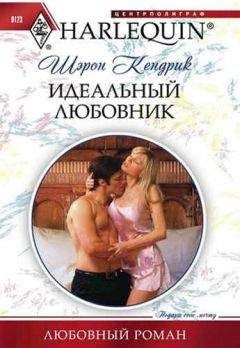Людмила Гурченко - Люся, стоп!
Нет-нет, кто-то увидел с неба мою надорванную судьбу и решил: «Пусть она передохнет. Ей еще надо жить и еще в жизни что-то сделать». Однажды я сказала Косте: «Ты ко мне относишься так, как я об этом мечтала всю жизнь». Слов о любви я уже никогда не провозглашала. Они кончились вместе с исчезновением из моей жизни Машиного отца. Но те слова были своеобразным признанием. Все свои слова в таком духе я знаю наперечет.
Но без всяких видимых причин, в самые безоблачные дни я поняла, что неделя кончилась и я еду на озвучание в Ленинград в прежнем одиноком состоянии. Почему? Не могу ответить. Может быть, я слишком одичала за время своих разочарований? Я уже боялась всякой «прелести» новизны. Ведь потом ждет отчаяние. И боялась одного — цинизма. Именно цинизмом кончаются любовные разочарования. Пробовала. Ужасно. Не мое. Я сразу теряю профессию. И находиться рядом с человеком, который довольно легко перенес разрыв в первом браке, тяжесть для моей души неизмеримая? Не знаю. Может, я уже сильно бита, а он еще ничего об этом не знает? Он еще папин-мамин сын. Я это чувствовала. В семнадцать лет я оторвалась с кровью от родной семьи. Научилась жить, принимать решения и сражаться одна. Может быть, это? Не знаю. Ничего не знаю.
Жаль, но иллюзию счастья, моря, солнца, песен Аструд Жильберты, босанов Джобима и моих странных нарядов надо закрыть. Вот так. А может быть, меня резанула фраза, которую он, еще не зная мою способность все соображать и слышать, сказал по телефону своему московскому другу: «Ты знаешь, так клёво». Засело у меня это «клёво». Виду не подала. Откуда такое слово? Вроде не из его лексикона. Со мной клёво. Ну что ж… Это правда. Я отошла от своих мраков. Я благодарна. Но и он, безусловно, вкусил момент особой жизни. Жаль, что Костя не знал беспредельной широты и изумительной иррациональности моего папы. Я во всем — его бледная тень. Но думаю, что забыть меня тоже непросто. Как это и не покажется нескромным.
Вот и кончился мой краткий ночлег. Костя еще остался отдыхать в Севастополе, а я… Еду в любимую работу. Как примет меня зритель без песен, без «штучек» и бантиков, в роли зрелой женщины? Да она еще и директор. И это через семнадцать лет после «Карнавальной ночи». Вот, Люся, о чем надо думать.
Профсоюзные взносы надо заплатить. Директор картины сказал, что пришло письмо из Театра-студии киноактера, что, мол, она играет такую роль, а профвзносы не плачены за семь месяцев. Надо заплатить. Как моя роль директора всех зашевелила.
На «Ленфильме» у меня много подружек. Поддерживали друг друга в личных неурядицах. «Да, девочки, очень милый парень, но пусть кому-нибудь другому, помоложе. Я все. Я нет». Эх, моя любимая работа. Ты меня никогда не подводишь. Мне с тобой всегда «клёво». Клёвенькая ты моя работеночка! Продажная и самая неангажированная! За что ж я так тебя люблю? Если бы не ты, ездила бы по миру, заглядывала бы в дорогие магазины. Нет. Ничего мне не нужно, кроме душного павильона, боевой команды «Мотор!» и замечательного состояния блаженства, когда получается! Ура!
Телеграмма: «Приезжаю в Ленинград. Поезд… вагон… Костя». Я хорошо помню себя на перроне, съежившуюся от ощущения чего-то неведомого. Что мне с этим делать? Что это? И зачем это? И не поздно ли это? Не рано — это уж точно. А что еще точно? Смятение, смятение. Стою в бледно-зеленом клетчатом костюме, отделанном серой репсовой лентой. Стою с длинными темными волосиками, которые некстати раздувает вокзальный ветер, открывая мой огромный лоб. Зачем мне этот лоб? Я же не Софья Ковалевская. Да, Люся, твой лоб был не нужен в легкомысленных ролях. А здесь, в роли директора, он-то, лобик твой, и делает половину дела. Да, может, тебя и утвердили на роль за этот лоб. Во какие дурацкие мысли крутятся в напряженный момент.
А из поезда выходят и выходят люди. А его нет и нет. Ну и ладно.
«Што бог не делаить, дочурка…»
Все вышли. Пора уходить. Из последнего вагона появляется пассажир в синей осенней куртке до колен, брюки чуть в клеш, с кейсом в руках. Мода начала семидесятых. Милый, простой, скромный молодой человек. Музыкант. Пианист. Не капризная великая звезда в окружении прихлебателей и носильщиков. И ведь можно работать всегда бок о бок, рядом, как мои папа и мама. К черту, к черту все внутренние съеживания!
«Ну, распрями плечи, моя клюкувка, распрастри глаза ширей, ну, три-чечирнадцать! Уперед!»
И мы полетели. Полетели, полетели, полетели… Летали долго. Семнадцать с половиной лет. А сколько лет чистых, без «примесей», - теперь не знаю. Да теперь и не важно. Летали по городам, по гостиницам, по магазинам, по нотам, по концертам, по Америке, по Израилю, по странам Варшавского договора, залетали в Таллин, к моей школьной подруге Милочке, где в ресторан он надел мои черные кримпленовые брюки клеш. Он любил красиво одеваться. Смеялись. Все было весело, легко, красиво и вкусно.
Когда я лежала в больнице со сломанной ногой, он проявил столько внимания и заботы. Это видели все. Им были восхищены. Мне завидовали. Да я и сама не верила, что такое возможно. Повторяюсь, я знаю. Но это хорошее повторение. Это можно еще раз.
Я видела счастливого человека, который вырывался из чего-то прошлого, в которое не хотел возвращаться. Он отрывался от уклада жизни, который был до меня. И это постепенно начало раздражать его родителей. Не сразу.
Для меня родители святое. Но я встретилась с совершенно незнакомыми проявлениями. Однажды, на первых порах совместной жизни, Косте стало плохо. Сильные колики в животе. Моя мама вызвала «скорую помощь». Я поехала с ним в больницу. Сижу, жду врача, волнуюсь, что скажет. Пришли папа с мамой, неестественно веселые: «Люся, перестаньте, что вы обращаете внимание на Костика? Да ерунда все это. Разве можно так серьезно… Ну что вы? Перестаньте!» И так весело, ну, совершенно не в тон больничной ситуации. Странно, очень странно. Врачи так ничего и не определили. Костя, грустный, послушал папу с мамой и, ничему не удивившись, тихо пошел в палату. Я не могла забыть, понять тот его уход. Что за отношения? Почему на него не обращать внимания?
Его папа, невысокий, шустрый человек с высоким мнением о себе. «Вот видите, вы уже народная. Вас печатают, а у меня книга о Глинке — не печатают. И балет детский я написал, — не ставят». Я понимаю. Меня было за что не любить. Но сын живет своей жизнью. Он ожил, счастлив. Ему нужно помочь это сохранить. Он так долго был на втором плане.
А со временем враз спохватились. Я нехорошая. Для папы. А прежняя жена тоже была нехорошая. Для мамы. А как меня поначалу гостеприимно принимали! Какие люди вежливые и приветливые. И сын такой воспитанный. Его жена была переводчицей. И мы с его мамой курили черные длинные сигареты, которые, как потом оказалось, жена Кости приносила с работы. Когда я стала нехорошей, оказалось, что та жена была совсем неплохим и милым человеком.