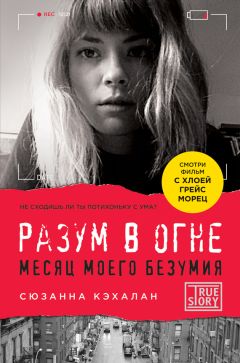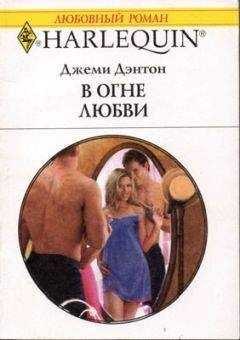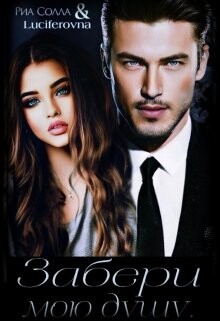Разум в огне. Месяц моего безумия - Кэхалан Сюзанна
Проснувшись и увидев его, я улыбнулась. Впервые с той ужасной ночи у него дома (накануне поступления в больницу) я поприветствовала его дружелюбно. Его обрадовало мое изменившееся настроение, и он предложил прогуляться по этажу, чтобы я могла размять ноги.
Хотя я сразу согласилась, прогулка далась мне нелегко. Я еле шевелилась, как старуха: с трудом сдвинулась к краю кровати и свесила ноги. Отец надел мне чистые темно-зеленые носки с нескользящей подошвой и помог слезть. Он заметил, что на голове у меня уже нет электродов, но оказалось, что я сама их сорвала во время очередной ночной попытки к бегству и медсестры просто не успели снова их прикрепить.
Даже ходить мне теперь было непросто. Отец всегда ходил быстро (когда мы с Джеймсом были маленькие, он часто уходил далеко вперед на многолюдных улицах), но сейчас старался держаться рядом и направлять меня. Я выставляла вперед сначала одну ногу, потом другую, и неуклюже приземлялась на стопы, будто заново училась ходить. Увидев, как медленно я двигаюсь, отец не смог больше сохранять оптимистичный настрой. Но когда мы вернулись в палату, он вспомнил пословицу, которая помогла мне сосредоточиться на позитивном.
– Если тебе легко, что это значит? – спросил он.
Я молча взглянула на него.
– Значит, ты летишь в пропасть, – с вымученной бодростью проговорил он, наклоняя руку и показывая склон горы. – А если тебе трудно?
Еще один непонимающий взгляд.
– Значит, поднимаешься в гору.
Мое физическое состояние ухудшалось, но симптомы психоза ослабевали, и врачи наконец смогли провести новые исследования. Моя болезнь, чем бы она ни была, накатывала волнами – каждую минуту, каждый час мне становилось то лучше, то хуже. И все же персонал больницы воспользовался кажущимся улучшением, и мне провели поясничный прокол – процедуру, более известную как люмбальная пункция, в ходе которой производится забор прозрачной, как морская вода, спинномозговой жидкости, омывающей спинной мозг в позвоночном столбе.
Прежде этот анализ проводить было слишком опасно, так как во время люмбальной пункции пациент должен лежать совершенно неподвижно, не оказывая сопротивления. Внезапное движение чревато ужасными последствиями, вплоть до паралича и даже смерти.
Хотя папа понимал, что провести эту процедуру необходимо, мысль о ней приводила их с мамой в ужас. В раннем детстве у Джеймса поднялась критически высокая температура, и понадобилась люмбальная пункция, чтобы исключить менингит. Родители на всю жизнь запомнили, как он пронзительно кричал от боли.
27 марта, на пятый день пребывания в больнице, я во второй раз позволила отцу зайти в свою палату. Теперь я почти все время смотрела в пустоту, не проявляя эмоций; на смену возбуждению пришла полная пассивность. Но даже в этом заторможенном состоянии я периодически находила в себе силы взмолиться о помощи. В редкие моменты ясности (которые, как и весь этот период, стерлись из моей памяти или предстают в виде туманных воспоминаний) отцу казалось, будто к нему взывает какая-то первобытная часть меня. В те минуты я повторяла: «Я здесь умираю. Это место убивает меня. Пожалуйста, заберите меня отсюда». Эти мольбы причиняли отцу сильнейшую боль. Он отчаянно хотел вызволить меня из этой жуткой ситуации, но мы не могли уйти: у нас не было выбора.
Тем временем мама, которая навестила меня утром, но потом была вынуждена вернуться на работу в нижний Манхэттен, тревожилась обо мне на расстоянии, периодически связываясь с отцом, чтобы узнать новости о процедуре. Она скрывала свое отчаяние от коллег, загрузив себя огромным количеством дел, но в мыслях то и дело возвращалась ко мне. Она безуспешно пыталась сконцентрироваться на работе, все время повторяя, что не должна чувствовать себя виноватой, что отец за мной присмотрит.
Наконец вошел молодой санитар, чтобы забрать меня на процедуру. Он спокойно помог мне слезть с кровати и сесть в кресло на колесиках, а потом позвал отца, чтобы тот следовал за нами. Мы втиснулись в набитый лифт, и санитар попытался разговорить папу.
– Вы родственники? – спросил он.
– Это моя дочь.
– У нее эпилепсия?
Отец вздрогнул.
– Нет.
– О… Я почему спросил – я сам эпилептик, – извиняющимся тоном проговорил санитар.
Он повез меня от одного лифта к другому по огромному холлу размером со стадион, и наконец мы очутились в приемной, где стояли еще пять каталок с пациентами. К каждой был приставлен санитар. Отец встал передо мной, загородив мне вид, чтобы я не сравнивала себя с остальными. «Она не такая, как они», – повторял он про себя раз за разом, пока наконец сестра не вызвала меня без сопровождающих. Отец понимал, что это всего лишь люмбальная пункция, но в голове невольно прокручивались другие, более зловещие сценарии. Такое уж это было место.
21. Перебои в смерти
Со дня моего поступления в больницу прошла почти неделя, но времени тут словно не существовало. Стивен сравнивал здешнюю атмосферу с Атлантик-Сити – только вместо игровых автоматов в больнице сигналили мониторы кровяного давления, а вместо жалких больных игроков были жалкие больные пациенты. Как и в казино, тут не было часов и календарей. Это была стабильная статичная среда; время отмерялось лишь постоянной активностью медсестер и врачей.
Судя по рассказам родных, я привязалась к двоим из медицинского персонала: медбрату Эдварду и сестре Аделине. Эдвард, здоровяк с дружелюбной улыбкой, был единственным медбратом на этаже, и из-за этого его часто принимали за врача. Он относился к этому спокойно и всегда был необычайно весел. Мы с ним перешучивались по поводу «Янкиз» и «Нью-Йорк пост» (это была его любимая газета). А вот сестра Аделина, филиппинка средних лет, была совсем другого поля ягода – суровый, честный профессионал, она оказывала на нас здоровое дисциплинирующее воздействие. В ее присутствии я успокаивалась.
К этому времени у моих родных выработался определенный распорядок. Поскольку присутствие отца меня больше не беспокоило, он приходил утром, кормил меня завтраком (йогурт и капучино), а потом мы играли в карты, хотя часто я была слишком рассеянна, чтобы следить за игрой. Потом он читал мне вслух книгу или журнал или просто молча сидел рядом и читал «Портрет художника в юности» Джойса. Каждый день он приносил вкусные домашние блюда – например, мой любимый десерт, пирог с клубникой и ревенем. Обычно они доставались Стивену: у меня по-прежнему не было аппетита.
Мать моего отца, моя бабушка, ирландка по происхождению, была медсестрой, и все детство он наблюдал, как она готовит вкуснейшие деликатесы в промежутке между сменами. Как и мать, он расслаблялся на кухне. Его блюда не только скрашивали мои больничные дни – готовка и ему помогала сосредоточиться на чем-то, кроме беспросветности нашего тогдашнего существования.
Мама приходила навестить меня в обеденный перерыв и после работы, всегда держа наготове свой список вопросов. Она часто вставала у окна и смотрела на Ист-Ривер; глядя, как лодки проплывают мимо гигантской рекламы «пепси» над Лонг-Айленд-Сити, она теребила руки – нервная привычка – и улетала мыслями далеко-далеко. Почти каждый день мы с ней смотрели матчи «Янкиз»: она вкратце рассказывала, как дела у наших любимых игроков. Но в основном мама просто сидела рядом, следила, чтобы меня ничего не беспокоило, а главное, чтобы меня регулярно осматривали лучшие врачи.
Стивен приходил около семи вечера и оставался, пока я не засыпала, – примерно до полуночи. Медсестры не возражали, хотя официальное время посещений, естественно, заканчивалось намного раньше. Стивен действовал на меня успокаивающе – а значит, я не попыталась бы снова сбежать. Каждый вечер мы с ним смотрели 24-минутный концерт Райана Адамса с музыкального фестиваля в Остине; досмотрев до конца, начинали сначала. Уходя домой, он оставлял телевизор включенным, и песни Адамса – «Поцелуй на прощание», «Жесткое падение» – играли и играли, как гитарные колыбельные, пока сестра, увидев, что я уснула, не выключала концерт. Стивен думал, что музыка сможет каким-то образом вернуть меня прежнюю.