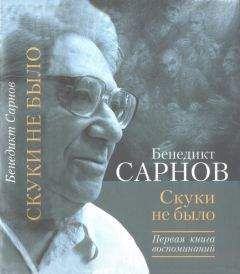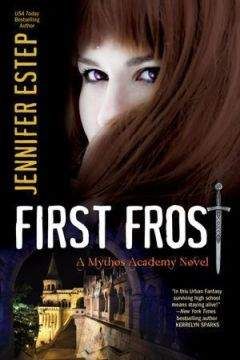Бенедикт Сарнов - Скуки не было. Вторая книга воспоминаний
Маяковский слушал, не перебивая. Долго и мрачно молчал. А потом сказал:
— Значит, так. Через десять лет в этой стране будет социализм. И тогда это будет хорошая поэма… Ну, а если нет… Если нет, чего стоит тогда весь этот наш спор, и эта поэма, и я, и вы, и вся наша жизнь…
Надежда Яковлевна выслушала мой рассказ не без интереса, но ее отношения к Маяковскому и его трагедии он, похоже, не изменил.
— Понимаете, — попытался я пояснить свою мысль. — Он был игрок. И всё поставил на эту лошадь. А когда понял, что никакому социализму — во всяком случае, такому, о котором он мечтал, — у нас не светит…
— Это, пожалуй, верно, — согласилась она. — Но это еще не дает нам основания считать его трагической фигурой.
И тут, к величайшему моему изумлению, добавила:
— Вот кто действительно трагическая фигура, так это — Эренбург.
Громадная фигура Маяковского и гораздо более скромная Эренбурга были для меня настолько несопоставимы, что ее заявление меня просто ошеломило. Ошеломило настолько, что всё, что она говорила потом, продолжая и развивая свою мысль, осталось для меня — как в тумане.
Хорошо запомнилась мне только одна ее фраза.
— Эренбург, — сказала она, — наводил мосты. А это самое трудное.
Какие именно мосты наводил Эренбург и почему это самое трудное, я понять еще мог. А вот, почему она считает, что Эренбург — фигура трагическая, тогда так и не понял. Понял позже, когда, читая в очередной раз книгу ее воспоминаний (уже книгу, а не рукопись), прочел:
Беспомощный, как все, он всё же пытался что-то делать для людей… Толпы пришли на его похороны, и я обратила внимание, что в толпе — хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Эренбург сделал своё дело, а дело это трудное и неблагодарное.
Я тоже был на тех похоронах и, читая воспоминания Надежды Яковлевны, — задним числом — оценил точность ее наблюдения. Да, это была антифашистская толпа: точнее не скажешь.
Но в тот момент, когда я глядел на ту толпу, эта простая мысль мне в голову не пришла. По разным причинам. Но, быть может, еще и потому, что первое, что бросилось мне в глаза, когда я приблизился к той толпе, был мой друг Эмка с огромным венком, который он держал перед собой обеими руками. На траурной ленте, украшавшей венок, было начертано: «ОТ ЦК КПСС».
Я давно уже привык к мысли, что иные реалии нашей советской действительности могут затмить наиабсурднейший из всех театров абсурда. Но ничего более фантастического, чем фигура Манделя с этим венком, я в своей жизни не видел.
Да, это был истинный театр абсурда. И несмотря на всю неуместность такой реакции в такой момент, увидав Манделя с этим невесть как попавшим к нему венком от ЦК КПСС, я рассмеялся.
Даже сейчас, вспоминая эту картину, я не могу удержаться от смеха.
Но сейчас она представилась мне не только комичной, и не только абсурдной, но в чем-то и символической.
И «диссидент» Мандель с перевернутым лицом, и вся антифашистская (по меткому слову Надежды Яковлевны) толпа людей, пришедших на его похороны, — всё это было Эренбургом заслужено.
Но и этот венок от ЦК КПСС, так нелепо выглядевший в этой толпе, да еще в руках у Манделя, тоже был тут удивительно уместен. Абсурдность этой ситуации как бы высветила на миг истинную роль Эренбурга, истинное его место в нашей жизни. (Вот так же надпись «Устрицы» на вагоне, в котором привезли мертвого Чехова, показалась символической тем, кто пришел хоронить Антона Павловича.)
Да, «вздорная старуха» была права. Роль антифашиста в фашистской стране не могла не быть трагической.
Вернусь, однако, к живому Эренбургу. К тому ужасному моменту его жизни, когда Гроссман в лицо назвал его фашистским писакой. И к моему разговору с ним об Александре Львовиче Дымшице, про которого он сказал Анне Зегерс: «Ты что, мало фашистов видела в своей жизни?»
Допущение, что майор советской армии может быть фашистом, его, стало быть, не шокировало. Констатация этого факта, судя по его тону и выражению лица, представлялась ему даже вполне банальной. Но тут фашистом — «фашистским писакой» — назвали его самого!
Одно дело — назвать фашистом нерукопожатного подлеца Дымшица, игравшего в Германии роль советского Геббельса, и совсем другое — его, Эренбурга!
И назвал-то его так не кто-нибудь, а Гроссман, высоко ценимый им Василий Гроссман, вместе с которым он создавал свою антифашистскую «Черную книгу».
— Неужели он так прямо и сказал? — не веря, спросил я Липкина.
— Так и сказал, — подтвердил Семен Израилевич.
— И что же Эренбург? — спросил я. — Как он на это отреагировал?
— Плохо… Очень плохо, — сказал Семен Израилевич. — Он побледнел, у него задрожали губы… Казалось, он вот-вот расплачется…
Продолжения липкинского рассказа я не помню, а выдумывать не хочу. Помню только, что в этом его рассказе как-то так выходило, что Эренбург, в сущности, и не мог ничего ответить на ужасную фразу Гроссмана. Не мог, потому что понимал: Гроссман прав. Не настолько же был он наивен, чтобы этого не знать!
В самом деле, трудно представить, чтобы Эренбург — с его вечной скептической усмешкой на губах, Эренбург, которого называли «Ильей-пророком», — наконец, Эренбург, в молодости написавший «Хулио Хуренито», — чтобы этот Эренбург не сознавал, не понимал того, что уже так ясно было видно тогда Василию Семеновичу.
И тем не менее он этого не понимал.
И смертельно обиделся он тогда на Гроссмана, быть может, не столько даже за себя, сколько «за державу». Не то, что его назвали «фашистским писакой», было для него ужаснее всего в том яростном гроссмановском монологе, а то, что Сталина Гроссман посмел уподобить Гитлеру, а Советский Союз приравнять к фашистской Германии.
Многое, конечно, он понимал. Но к таким обобщениям был не готов. И совсем не потому, что был глупее — или, скажу мягче, — наивнее Гроссмана.
Причина этой его слепоты была другая.
В тот же вечер, когда я услыхал от Эренбурга приведенную выше его фразу о Дымшице, был у меня с ним еще один хорошо мне запомнившийся разговор.
Возник он в связи с той же злополучной моей статьей, из-за которой разразился скандал, завершившийся статьей Дымшица.
Статья эта, как я уже говорил, — на мою беду — печаталась в двух номерах: первая ее часть в одном номере, а окончание должно было появиться в следующем.
Но в следующем номере оно не появилось, потому что в промежутке между этими двумя номерами как раз и разразился скандал.
И прежде всего встал вопрос: что делать со второй частью?
Не напечатать ее было нельзя. То есть можно, конечно. У нас все можно. Но — нежелательно, поскольку в конце первой части было сказано: «Окончание в следующем номере».
В следующем номере окончание все-таки не появилось. Оно появилось через номер. А в промежутке мне крутили руки. Применяя, впрочем, политику то кнута, то пряника. То давая понять, что «будет хуже», то — давя на чувства: нельзя быть эгоистом, думать только о себе, надо спасать любимую газету: если «дядя Митя» рассерчает еще больше, разгонят не только весь наш отдел, но могут снять и главного: вы что же, хотите, чтобы газета опять попала в лапы Кочетова и его банды?
Все это происходило на специально созванной по этому случаю редколлегии.
Замечания членов редколлегии, как выразился один мой знакомый поэт, как артиллерийские снаряды, никогда не попадают в одну точку. Один требовал, чтобы я не упоминал Цветаеву. Другой — чтобы что-то смягчил, говоря о Вознесенском. Третий — чтобы, напротив, ужесточил мои претензии к Евтушенко. Четвертый, чтобы непременно упомянул Твардовского (хотя это было в той статье — ни к селу, ни к городу). А один из членов редколлегии — Леонтьев (Борис Леонтьевич, кажется: в отчестве не уверен, но в имени не сомневаюсь, потому что помню, что мы между собой называли его «Блеонтьев»), курировавший в газете самый политизированный, а потому самый гнусный — международный отдел, произнес примерно такую речь:
— Все, о чем мы здесь сейчас говорим, в сущности, не имеет никакого значения. Представьте себе, что в наш отдел поступила статья, автор которой придерживался бы взглядов Милюкова. А мы просили бы его убрать все цитаты из Милюкова. Что бы это изменило? Да ничего! Ведь концепция милюковская все равно бы осталась… Товарищ Сарнов (кивок в мою сторону) придерживается взглядов Эренбурга. Вся концепция его статьи — насквозь эренбурговская. И поэтому, какие бы купюры мы ни уговорили его сделать, суть дела от этого не изменится…
В общем, он клонил к тому, что окончания статьи печатать ни в коем случае нельзя.
В конце концов решили все-таки печатать, изрядно меня пощипав. Но рассказываю я все это не из-за себя, а из-за Эренбурга.