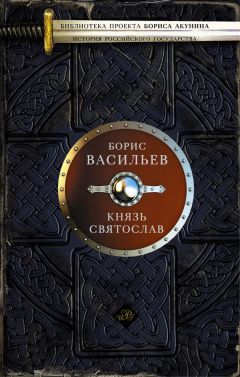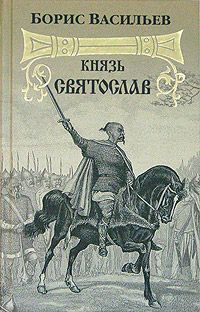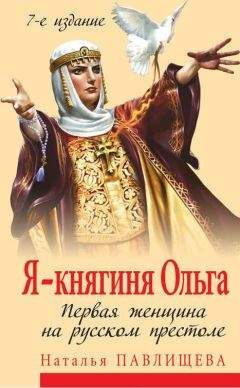Борис Пастернак - «Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями
Женя.
Я и не думала, что здесь еще чистая страничка. Получила твое последнее письмо сегодня в 2 часа ночи, когда встала кормить. Паня мне его подала, получилось оно в 7 часов вечера, но мама уходила до 12. Взрывы любви пробегала быстро и недоверчиво, чуть ли не как шутку. Ведь за два года, кроме самого первого, я не видала с твоей стороны активной (не то слово и не могу его найти) может, радости и нужды в моем очаровании, все всегда было затуманено и покрыто грустью, а только удовлетворенность, радость и свет – утверждают.
Пришли Современник (стоит 3 р.) и Идитол.
Научно-фантастический роман Сергея Боброва “Изобретатели идитола”, который мама просит прислать ей, был издан в 1923 году в Берлине при прямом участии отца.
Талон от почтового перевода на 50 рублей:
30. V.24. <Москва>
Дорогая Женичка, сообщи, когда получишь. Прости, что так мало, как только смогу, пришлю больше.
Жалко, что переводом нельзя послать тебе чудесной сирени и кучи других цветов, цветущих и благоухающих на театральном сквере, который вижу в окно (почтовое отделение в Метрополе). Жаркий солнечный день, центр сияет, тени фиолетовые, зелень черно-зеленая, дорожки оранжевые, разносчики в белых передниках продают желтые лимоны.
Боже, какой глупый тон! Так в 16 лет пишут. Обнимаю.
3 <июня 1924> вторник <Ленинград>Боричка, спасибо, 50 рублей вчера получила. Получила накануне и письмо, где пишешь, что хочется тебе предупредить мою просьбу денег, так это почти и вышло, мое письмо и деньги отправились в путь одновременно, а может, письмо и позже.
Завтра мама и Феня должны поехать на дачу перевезти вещи, а я надеюсь в четверг. Только что складывала чемодан. Женичка еще болен, то есть у него все еще не прекращается расстройство, я ездила опять, то есть это всего второй раз к профессору Абельману и в результате решила сама по-своему лечить. Я напишу тебе весь ход болезни (вообще Женичка весел и по виду здоров) и советы врачей, и буду тебе благодарна, если ты зайдешь или обстоятельно поговоришь с Абрам Осиповичем по телефону и напишешь мне, потому что если пройдет еще неделя, меня это будет сильно беспокоить, во-первых, потому что уж больно долго это продолжается, и во-вторых, потому что Жене уже 8 месяцев и 10 дней, а он кормится только грудью.
Итак, числа 15 мая я начала Женю прикармливать бульоном, причем не приняла во внимание, что, может, надо прикармливание начать постепенно и боясь мешать обед с грудным молоком, я в первый день дала ему немного меньше, чем ½ стакана бульона, во второй ½ стакана бульона и 1 столовую ложку протертых овощей (морковь и брюква) и в третий день ½ стакана бульона и без мерки, думаю ложки 3 полных столовых протертых овощей (мама протирала и поднесла их мне уже в стакане, а Женя ел и я радовалась и кормила). На следующий день испортился желудок, сперва несло овощами, а потом несло просто, на второй день 8 или 9 раз. На третий день заболевания был у меня Абрамович, велел дать касторку чайную ложку, после касторки велел давать перед каждым кормлением микстуру, туда входил бисмут, салол и все это в миндальном молоке (Абрам Осипович, вероятно, знает) и 6 столовых ложек рисового отвара тоже перед каждым кормлением <…> Через три дня, то есть на 12 день заболевания Абрамович был опять и установил прикармливание (очень странное на мой взгляд). <…> больше всего меня смутило постоянное прикармливание перед каждым кормлением коровьим молоком и долгий затяжной подход к прикармливанию. Я на следующий день позвала профессора Абельмана. Про желудок сказал, что зеленый цвет – не важно, что слизи – не много, велел прикармливать: коровье молоко не давать до августа месяца, начать с бульона плюс 1 столовая ложка протертых овощей плюс 1 чайная ложка подогретого масла, все вскипятить и начать давать всю порцию сразу, чтобы не смешивать прикорм с грудным молоком. Когда привыкнет к бульону, приблизительно через неделю, начать давать 10 ложек каши манной, рисовой или геркулес на молоке и тоже всю порцию сразу опять-таки, потому что он против смешения коровьего молока с грудным.
Профессор ушел, а Женю опять (дня три он имел желудок по 2 или по 1 разу в день) пронесло тут же три раза, а на завтра 4, и на следующий день опять 4 или 5. Я, конечно, бульона ему и не начинала давать и опять поехала к нему с пеленками. Это было в понедельник 2 июня. Посоветовал давать один раз в день кашу на воде рисовую с прожаренным маслом, 10 ложек сразу и один раз в день 10 ложек говяжьего бульона с протертой перловой крупой, тоже 10 ложек сразу. Если желудок не успокоится, позвонить ему, а если хочу ехать в деревню, взять с собой касторку. Я решила и сегодня так и делала. <…> Если желудок укрепится, начну опять давать постепенно кашу по рецепту Абрама Осиповича.
Прошу тебя очень все тотчас же передать Баландеру и мне ответить. Все это время с начала болезни Женя получает только грудь. Я надеюсь, что дней через 6 у меня будет ответ, я продержу его на грудном молоке. Вообще же начать прикармливать еще нужно и потому, что меня очень истощает кормление, я, кажется еще похудела в Питере, вообще выгляжу очень скверно. Но вчера мама позвала ко мне врача. Легкие и сердце слава Богу здоровы, истощение, но это, даст Бог, наладится.
Всего тебе хорошего.
Женя. <…>
<7 июня 1924. Москва>Дорогая Женичка! Сегодня суббота, сейчас 2-й час дня, я только что получил и прочел твое письмо от вторника, с росписью Женичкиных страданий и с просьбой поговорить с Абрамом Осиповичем. Я звонил ему, его дома нет, он только поздно вечером будет дома, вероятно я сговорюсь с ним на завтра утром (воскресенье). Тогда допишу деловую, то есть медицинскую часть письма, а пока набросаю часть здоровую.
Как медленно идут от тебя письма. Правда, вина наполовину лежит на государственной почте, но и ты очевидно не умеешь их отправлять. Имей в виду, что если ты опускаешь письмо в ящик где-нибудь в городе даже среди дня, а не ранним утром, то оно лишь на следующий день отправляется на Центральный Петроградский почтамт, потом в особо благоприятных случаях в тот же день, а иногда и на другой, если опаздывает к почтовому, идет в Москву, где та же процедура с двумя отделеньями (Мясницкой и Пречистенским) растягивается и у нас на два дня. Твое письмо получено 20 минут назад. Сегодня суббота, время – половина второго дня. Написано оно во вторник. Я этого не сочинил. Это факт.
Ну так вот. Когда срок нас не интересует, можно письма опускать, не заботясь куда и когда их опускаешь. В таком случае, как настоящий, когда ты на оба конца (с ответом) кладешь 6 дней, надо было об этом подумать. Что можно в этом смысле сделать. Не говоря уже о “спешной почте”, можно самому сделать именно то, что делает спешная почта. Надо письмо написать среди дня и снести его на Николаевский вокзал к почтовому или даже к скорому и опустить письмо в поезд. Надо тебе знать, что даже из ящика, висящего на вокзальной стене за его дверями, на площади, почта вынимается и увозится в город, на главный почтамт. Остроумно устроено, неправда ли? Задержку на полдня с Баландером я допускаю не только оттого, что это неизбежно (его дома не будет), но еще и оттого, что завтра воскресенье и даже если бы мое письмо пошло сегодня (с вокзала) и завтра было бы в Петербурге, этот воскресный день оно пролежало бы без дальнейшего движения к тебе. Надо надеяться, что таких исключительных случаев больше не будет. Вообще же не мешает это принять к сведению.
Когда ты будешь в Тайцах, письма будут верно идти недели по две в конец. В этом ничего страшного нет, труден только этот первый перерыв, а потом промежутки между письмами будут соответствовать промежуткам между их написаньем и отправкой. Если бы я уже знал твой точный адрес, я заранее бы пустил туда первое письмо, пока ты еще в Петербурге. Вероятно, ты их будешь получать на станции, то есть ходить и посылать за ними? Делай это не чаще двух раз в неделю. Бывает очень больно и грустно среди природы (совсем иначе нежели в городе) и независимо от того дороги или нет письмо и человек, который их пишет, и насколько дороги, – бывает страшно грустно, говорю я, придти под вечер на станцию, пропустить поезд, справиться в сторожке и пойти ни с чем домой, в косом свете садящегося солнца, которое так было похоже на получку письма и так его обещало, пока шла ты на станцию.
Вот ты писала, что я человек настроенья, золотая девочка, в том чудесном своем письме, где столько радостного о мальчике и из которого я впервые об Абельмане услыхал. Если тебе это не близко и ты этого не любишь, что делать мне тогда? Ведь это не то, что я сам, – это больше: это лучшее во мне; то есть это то, что очищает слух и чутье, и делает их отзывчивыми на все подлинное кругом, на все, кроме условности и претензии. Кому и может быть это близко, как не тебе?