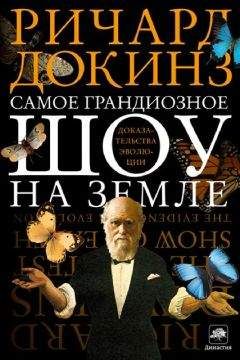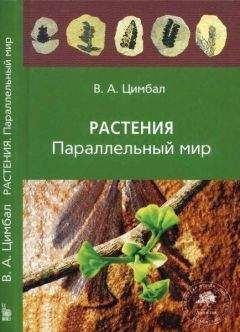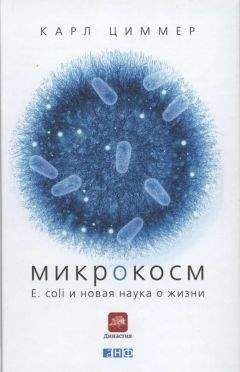Елена Макарова - Фридл
Дорогая, от Франца я не слышала ни звука, и его планы мне неизвестны. Ты, само собой, можешь жить у меня, сколько захочешь. Стефан, вероятно, какое-то время будет здесь; вы с ним должны были бы это спланировать.
Иттен только что был по поводу Маздазнана в Лейпциге, провожал жену и, вероятно, из-за этого о многом забыл.
Дорогая, купи себе срочно «Опыты» Эмерсона. Смотри, что он пишет: «Итак, поставь себе на службу все, что называют судьбой. Большинство людей играют с ней в азартную игру, и с каждым поворотом ее колеса кто-то приобретает все на свете, а кто-то все теряет, но ты научись считать эти приобретения незаконными и не стремись к ним, ты отдайся служению Делу и Пользе, этим канцлерам Всевышнего. Отдайся Воле, трудись, приобретай, и ты сумеешь сковать движение колеса Случая и не будешь страшиться нового его поворота».
Движение колеса Случая… Как сковать его? Почему меня так волнует этот, в общем и целом, банальный образ?
Через 2 дня. Сегодня я набрала шесть иттеновских страниц. Выходит не очень хорошо, но все еще можно будет изменить. Квартире так подходят твои кружева, она выглядит поистине чудесно. Я очень устала, руки и ноги болят из-за печатания. Еще 10 страниц, и я у тебя.
«В бездуховные времена возникает хаос, когда знание и творческая сила теряют ФОРМУ. Сознание ищет все глубже, стремясь добыть ясность».
Мое сознание уже ничего не ищет. От кропотливой работы слезятся глаза.
Запрокинь голову! – Стефан стоит надо мной с каплями и пипеткой. – Все! Теперь дыши по системе маэстро…
В его устах все звучит как пародия. Даже Иттен. Он читает мне вслух «Утопию» с местечковым еврейским акцентом, и я покатываюсь со смеху.
«Мы впитываем все знания, так как мы опоздали, потеряли себя в мире…» Но есть надежда на выздоровление, просветление, ибо «пока еще люди не превратились в зверей и машины. Чтобы этого не произошло, им будет подарено пробуждение: искорка вспыхивает… стремление к реальности загорается, пламя выбивается наружу, пробивает сферы условности, и в свете, который светит сюда от Господа, лежит реальный мир. Тут колеблется сущее, и замерзшее плавится в пламени Утопии…»
И с чего Иттен взял, что людям будет подарено пробуждение?! У нас пока еще никто не проснулся. Кроме господина Кафки. Люди, у которых нет чувства юмора, беспробудны. А как тебе нравится такая сентенция? «…Жизнь – это самая современная современность, но задача ее – Вневременность…» Все очень серьезно. А такая реклама собственной книги? «Эта книга не более чем ставит вопросы, но зато ставит эти вопросы правильно…»
Тогда назови хоть одного философа с чувством юмора.
Пожалуйста – Платон. И вот это, конечно же, очень впечатляет: «В бездуховные времена возникает такая смута, что знание и творческая сила теряют ФОРМУ. …В этой ситуации нет места эстетическому украшению жизни, проголодавшейся телом и душой. Здесь, посреди струящегося и летящего песка этой вихревой современности, должен быть заложен фундамент…»
Все, любовь моя, я голоден телом и душой. До того как мы с тобой заляжем в фундамент, следует перекусить!
Ночное кафе на веймарском вокзале.
Я уплетаю за обе щеки – до чего приятно есть досыта. Я исхудала, на мне бордовое платье по фигуре – подарок Гизелы, в разрезе у ключиц овальная брошь собственного изготовления.
Представь себе, Фридл, большой симфонический оркестр, публика ждет «Патетическую», и тут на сцену выбегает маленький человечек, взмахивает палочкой – и мы слышим тоненькое: цитравелли цитравелли трик транк тро… Смешно, да не очень.
«Вечера Баухауза» отняли у меня Франца. Хотя он рядом, он никуда не делся, просто он уже не является частью меня. Его место занял Стефан Вольпе. Девятнадцатилетний композитор, ученик Бузони. Музыка, музыка, музыка!
Стефан принадлежит к числу самых чудесных, своеобразных и сильных личностей. …И когда я задумываюсь о том, кто вообще за последнее время вошел в мою душу, то это только он. Мы много спорим, Стефан все еще страдает от своей берлинской недоверчивости, но от нее не так-то просто освободиться. Я разучиваю одну его песню, мне она очень нравится.
В желтых цветах висит,
Пестрея шиповником,
В озере берег.
И милый лебедь,
Пьян поцелуем,
Голову клонит
В священно-трезвую воду.
Горе мне, горе, где же найду я
Горькой зимою цвет? Где найду
Солнечный луч
И тени земли?
Стены стоят
Хладны и немы.
Стонет ветер,
И дребезжат флюгера.
Еще мы поем Баха и Моцарта. …Стефан – сплошная красота, он неслыханно чист душой… Я очень хотела бы, чтоб он приехал в Вену к нашим людям, к Шёнбергу.
Я рисую, а Стефан сидит тихонько в углу и что-то сочиняет, и все, что сочиняет, посвящает мне. «Пой многократно! И с каждым разом звучание будет все чище, все прекрасней! Фридл, ты так одарена музыкально! 4 сентября, 1920 года». «Фридл, наипросветленнейшей из всех. 29 сентября 1920 года». Четыре адажио для фортепиано, песня на стихи Гёльдерлина – все мне!
Фридл, муза моя, при-чуда при-роды. Как верный пес, я улавливаю все перепады твоих настроений. Вот ты грустна – и я несу в зубах промокашку, сейчас из глаз твоих брызнут слезы, и я утру их.
Из моих глаз не брызнут слезы.
Тогда утру улыбку. Вот ты и сияешь! Я знаю, ты рисуешь в уме. В прищуренных глазах – сухой блеск, губы поджаты… Если бы ты видела себя в эти мгновения! Нет! Я не хочу, чтобы ты превратилась в цветок, оставайся женщиной, к которой я питаю вполне изъяснимые чувства.
Стефан поет мои рисунки, а я хохочу. Невозможно так рисовать, прекрати, пожалуйста, сядь ровно!
Я комкаю рисунок – и в ведро. Стефан вынимает из ведра свой портрет. Он готов войти в историю и в скомканном виде.
1000 вещей хотела тебе написать, но, прервавшись на какое-то время, уже не в состоянии вспомнить, что это было. Я работаю над литографиями.
Люди здесь совсем очумели: режим работы мастерских постоянно меняется. Еще эта свинская академия! Только что была выставка с экскурсией.
Ты спрашиваешь, что я делаю? …Непристойным образом пишу тебе во время урока. Передо мной обнаженная. Умнее всего было бы, наверное, тебе тоже на одну-две недели приехать в Берлин. У Стефана много покровителей, причем настоящих. Они, может быть, дадут тебе денег, чтобы ты наконец стала самостоятельной. Я тоже хочу в Берлин. Меня приглашала госпожа Шломан, я узнаю, возможно ли. Пока, напиши мне поскорей. Я сейчас охвачена желанием ткать, после напишу еще одно письмишко.
Макс и Стефан мне все уши прожужжали госпожой Шломан. Оказывается, в Берлине живет дама, которая заботится о молодых дарованиях. Да, забыла сказать, что Стефана привез в Баухауз Макс Бронштейн, в будущем знаменитый израильский художник Мордехай Ардон. Он доживет в Иерусалиме до глубокой старости. Похоже, мы все были запрограммированы на долголетие.
Я доживу до 100 лет, к сожалению, я это чувствую. Временами, когда я осознаю или вижу себя такой, какой мне хотелось бы быть, во мне зарождается большая надежда.
Ладно, не дожила до ста лет, не успела стать собой, почему меня не оставляет эгоистическая детская обида? Вместе со мной не стало стольких людей, и бездарных, и талантливых, и гениальных. Надо быть добрей и радоваться за тех, кому удалось осуществиться. Например, Максу и Стефану! Эта магма из пылающего вулкана однажды материализовалась в моей веймарской квартире. Макс старше меня, Стефан младше. В Баухауз они были заброшены по наводке госпожи Шломан.
Макс – мальчик из штетла, весельчак и болтун. Сыплет анекдотами, говорит притчами, привирает на каждом шагу. Например, в его рассказ о том, как его приютила госпожа Шломан, особенно после того, как я познакомилась с ней лично, трудно поверить.
«Я приехал в Берлин из Польши с несколькими друзьями и пошел с ними в музей. Я родился в маленьком городке, скорее даже деревне, и, оказавшись впервые в музее, пришел в экстаз. Внезапно я увидел женщину в черной вуали, она стояла и слушала мои объяснения. Может, из полиции? Она подошла ко мне поближе и спросила: “Кто вы? Студент?” – “Да, я студент”. – “Вы изучаете искусство?” Она дала мне карточку: “Шломан, Далем, Паркштрассе, 96” – и сказала: “Приходите ко мне”. Примерно через месяц я приехал в Далем. Это был очень богатый район. Госпожа Шломан вышла ко мне и сказала: “Вы долго себя заставляете ждать. Чем вы занимаетесь?” – “Рисую”. – “Я хочу видеть ваши рисунки”. На другой день я пришел с рисунками, и тут из подвала вышел Стефан и сказал: “Шломан мне о вас рассказывала”. Короче, она написала письмо в Баухауз, думаю, Паулю Клее, и так я стал студентом. Мы сдружились со Стефаном, который жил у Шломанов в подвале. Подвал стал мне родным домом. Шломан была замечательной женщиной. Она привечала у себя бездомных художников, мы оба стали ее детьми. У нее был сын, но мы были ей куда ближе».