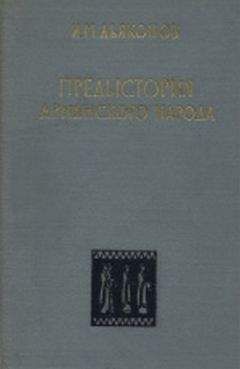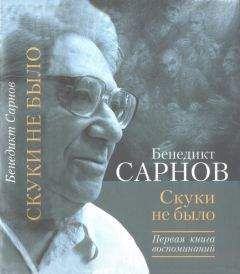Игорь Дьяконов - Книга воспоминаний
Кроме того, появился капитан Ефимов. Он был приятного вида, немного
Он представлял у нас СМЕРШ. Ему была определена комната по соседству с моей каморочкой.
Наверное, в тот момент, когда у нас появился капитан Ефимов, я чуть ли не впервые задумался над тем, как я буду исполнять здесь свою роль. Было ясно, что она заключается в общении с иностранцами — с местным населением, в хождении по их квартирам, в вызовах их к себе и т. д. Между тем, это был 1944 год, когда за один разговор с иностранцами вполне нормально было попасть в концлагерь или на тот свет. Взвесив все это, я решил, что единственный выход для меня — это выполнять то, что считаю нужным. Если захотят, так все равно схватят, как ни трусь. Я уже давно заметил, что в армии, во время войны, если ты нужен, то тебе предоставляют полную свободу действовать. Это мое решение было, конечно, правильным.
Нас вскоре взяли на довольствие в дивизии, и появился еще солдат, который был назначен поваром. Для этого у него была бесспорная квалификация: он был одноглаз и хром, и потому в строй не годился. Он обосновался на кухне в подвальном этаже, и все, кроме полковника, приходили туда есть в удобное для них время. Но как повар он имел и небольшие недостатки: во-первых, он был невероятно грязен и нечистоплотен, а во-вторых, ему никогда не приходилось ничего готовить, кроме «блондинки» (пшенной каши), которую он еще в своей роте, бывало, варил в большом котле, — несложная кулин фия.
Выносить зрелище его стряпни и обращения с посудой было тяжко. Между тем, одновременно с поваром у нас в комендатуре появились еще два новых лица, которых моя бабушка назвала бы денщиками, однако сержант, обслуживавший полковника, назывался ординарцем, а иногда адъютантом, а мой — связным. То, что мне дали связного, означало признание меня вторым лицом в комендатуре — впрочем, и в той единственной нашей дивизии, которая осталась на норвежской территории, было, наверное, не более полудесятка капитанов, так что я'в любом случае был большой шишкой: не то, что в Беломорске, где одних майоров насчитывалось не менее ситни-двух: знай будь начеку, чтобы вовремя козырнуть. Впрочем, неприятности возникали только, если не козырнешь подполковнику или полковнику: всякий майор знал, что капитан и даже старший лейтенант может очень скоро стать майором, так зачем наживать себе врага. А перед генералом старшему лейтенанту в Беломорске полагалось вытягиваться по стойке смирно и становиться «во фрунт».
Ординарец полковника был хитрый, плутоватый и оборотистый парень; мой же связной был маленький, хилый и забитый паренек, тянувший ноги так, как будто у него башмаки были без шнурков — безошибочно можно было угадать бывшего пленного: на эту повадку и эту походку я насмотрелся у пленных немцев.
Когда у меня появился связной, я после некоторого размышления решил питаться у себя в каморке, хотя обычай нашей армии — каждому званию питаться отдельно от других — мне очень не нравился. Дело в том, что, в отличие от всех армий мира, наши офицеры не только не обедали с солдатами, но, в зависимости от звания, норовили поесть невидимо для тех, кто по званию ниже; это объяснялось тем, что офицеры получали «доппаек», причем разный, в зависимости от звания: младшие офицеры получали, скажем,
консервы (в начале войны — и масло), а старшие, скажем, еще и колбасу; генералам же перепадали осетрина и икра и т. п.
В комендатуре я доппайка не получал; а стелить, например, постель или чистить сапоги моему связному не приходилось, потому что спал я на Гришиной шкуре на нарах, а ваксы же у нас в заводе не было. Так что подать мне наверх в конурку поесть было единственной обязанностью моего связного. Я пошел на такой снобизм — не питаться с другими офицерами — исключительно для того, чтобы не видеть повара. Он всегда норовил запустить грязный палец в тарелку с кашей.
Примерно одновременно с полковником Лукиным-Григэ в Киркенес прибыл и морской комендант, или, как он называется на флоте, старший морской начальник. Не упомнил его фамилии. Он въехал в дом напротив комендатуры; в отличие от нашего, он был полностью меблирован: ковры, кресла, буфеты, шкафы, кровати, постельное белье. Рослов не занял этот дом из скромности. Кроме того, дом имел живого хозяина, одного из инженеров завода, который почему-то замешкался въехать к себе домой из пещеры; он частенько бывал в гостях у старшего морского начальника и выпивал с ним стаканчик эрзац-рома. Что делал старший морской начальник остальное время — я не знаю.
Сохранившийся целым дом был и рядом с комендатурой. А еще один целый и меблированный дом стоял среди руин дальше на пригорке, метрах в 70–100 от комендатуры по нашей стороне. Там был размещен Лукиным-Григэ комендантский взвод охраны, подобранный из лучших коммунистов дивизии.
Изо всех других сохранившихся домов наше командование приказало солдатам и офицерам выселиться.
Они жили всю зиму на снегу вокруг костров — норвежцы постоянно слышали их песни и игру на гармошке; нередко приходили просить хлеба или медицинской помощи.
Когда фронт был распущен, я оказался в Советской армии ничьим, но фактически был работником комендатуры. До февраля у меня не было никакой должности; по существу я был то ли «зам», то ли «пом» Лукина-Григэ. Когда мне приходилось называть свое положение, я говорил или писал, что был помощником коменданта по иностранным делам. Формально же я все еще был инструктором-литератором политуправления уже распущенного фронта.
Лукин-Григэ ввел комендантский час, так как все-таки ему было не ясно, вовсе ли убрались немцы, и не будут ли они забрасывать, например, диверсантов. Это была прифронтовая зона, и ходить по территории, занятой нашими войсками, можно было только по пропускам. Дивизионная многотиражка отпечатала на какой-то коричневой оберточной бумаге бланки пропусков, а я их подписывал. Один такой бланк с моей подписью хранится где-то в Музее армии, а несколько экземпляров по сей день сохранили норвежцы. Я их выдавал очень много. Фактически ходить надо было всем, и я никому не отказывал: кто приходил, тот всегда и получал.
Раз приходит ко мне старик-дневальный со своим обычным:
— Товарищ капитан, там норвег пришел.
Выхожу. Оказывается — квислинговский мэр Сёр-Варангера (Киркенеса).
Оборванный, жалкий, несчастный, руки дрожат. Пришел спросить, когда его будут арестовывать. Я поднялся к коменданту и доложил ему. Он приказал его отпустить домой.
Нам было строгое указание из Москвы не вмешиваться ни в какие внутренние дела, и арестовывать кого бы то ни было нам не было приказа. Но все-таки, услышав, что в округе живет квислинговский мэр, Лукин-Григэ приказал на всякий случай сделать у него обыск на предмет возможного хранения оружия. Я пошел с солдатом делать обыск. Прибыли; видим страшно бедный домишко, прямо какой-то грязный сарай. Детишек, пожалуй, с десяток. Жена заплакана. Немцы выбрали такого мэра потому, что никто получше к ним не шел. Сейчас с ним никто не разговаривает. Чем питаться — неизвестно. Сделал обыск; никакого оружия, конечно, не нашли. Он начал складывать вещи: думал, его заберут. Я его оставил в покое, и на этом дело пока закончилось.
Впоследствии его арестовали норвежские военные власти. Он отделался короткой отсидкой[341].
Начались жалобы на кражи. Как только люди начали возвращаться на свои пепелища, обнаружились недостачи — прежде всего, велосипедов и машин, которых у местного населения, по нашим тогдашним советским понятиям, было довольно много. Каждое дело я старался расследовать, хотя это было нелегко, так как передвигаться мне приходилось способом пешего хождения — одному или с автоматчиком. И результатов было мало: как правило, машины были угнаны офицерами уже выведенных частей. В очень многих случаях машины и велосипеды мы находили — не поедешь же на велосипеде в строю части на марше, — но находили по большей части пришедшими в негодность.
Однажды, уже где-то чуть ли не в феврале, ко мне приходит в приемную комендатуры человек довольно поздно вечером, чуть ли не перед комендантским часом. Жалоба на кражу автомобиля. Беру временно случайно прибывшую из дивизии машину и еду с автоматчиком на место происшествия. Выясняется, что автомобиль стоит в 150 метрах от дома своего хозяина и от того места, где был взят. Как выясняется после расспросов, наши солдаты проникли в пещеру с ромом, напились и, увидев у обочины легковую машину, влезли в нее и поехали. Управлять они не умели, уехали недалеко и свалились в кювет. Казалось бы, после их ухода хозяин мог бы вытащить ее из кювета и ездить на ней. Но норвежцы — народ законопослушный: если русские взяли машину — значит, так надо; был, к тому же, опыт с немцами; поэтому хозяин дал ей пролежать в кювете несколько месяцев. Любой проезжавший водитель что-нибудь с нее снимал, как с брошенной, и теперь уже там лежал один кузов. Тут уже ничем нельзя было помочь.