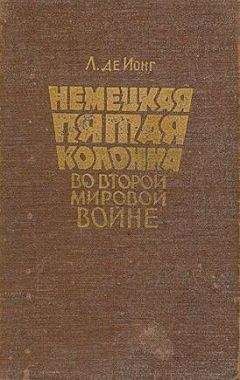Владимир Герлах - Изменник
Подумав понял: потому что он был командиром 654 Восточного батальона и на его руках было много крови… вспомнил без труда всех, начиная от Херца, утопленного по его приказанию в Сони и кончая Хохловым, которого он сам застрелил и других…
многих… Почувствовал себя страшным грешником и захотел здесь же всенародно покаяться… как, когда-то, Раскольников в романе знаменитого русского писателя Достоевского… Но что такое этот несчастный Раскольников и его грехи по сравнению с грехами его, оберлейтенанта Галанина? Ерунда на постном масле… только двух зарезал и испугался до смерти, в то время как он, Галанин так много, что со счета сбился… поэтому ему, в особенности, нужно просить прощения у всех и на всех языках всенародно и на коленях… Что решил, то и сделал безо всякого ложного стыда… стал на колени, поклонился до земли на все четыре стороны… просил… по-русски… по-французски… по-немецки… хотел еще по-итальянски, но запутался и замолчал… ждал прощения, вместо прощения увидел на лице попа улыбку и услышал ясно, как тот сказал, что у него только что кончилась месса и слишком поздно исповедоваться… врал и главное смеялся над ним, командиром Восточного батальона со своей дурацкой мессой! Вскочил на ноги, направил на попа автомат и начал его ругать по-французски матом… с удовольствием гонялся за разбегающимися во все стороны людьми, хотел во что бы то ни стало поймать кюре и его выпороть, за издевательство над горем!
Но тот уже успел в последнюю минуту убежать за калитку и закрыть ее на засов. Как будто это могло остановить всемогущего командира батальона… Полез на забор вместе с автоматом и, вдруг, увидел их, своих заклятых врагов, макисаров, на ходу вытаскивающих револьверы, он это ясно видел… Решил быстро отступать, в Швейцарию, где его ждали боевые товарищи во главе с этим молодцом Закржевским, понял хорошо, что он перепутал и вместо Швейцарии вернулся в ту деревню, откуда они ушли сегодня ночью! Наверное виновато было это проклятое вино Аверьяна… но отступление было отрезано. У него оставалось единственное убежище, откуда не могло быть выдачи — церковь. Дал хорошую очередь из автомата, с удовольствием увидел что ни глаза ни руки ему не изменили, что два макисара упали и остальные убежали! Трусы!
С достоинством поднялся по ступенькам в церковь, там в полутемном притворе подошел к каменному большому кувшину, помочил больную голову водой и перекрестился по своему, по православному, с презрением посматривал на нескольких французов залезших под скамейки и сказал им по-немецки, что бы они не боялись, пошел по узкой витой лестнице вверх на колокольню… И это восхождение было чрезвычайно трудным, не легче чем его карабканье из колодца, куда его столкнул этот черт Аверьян… кружилась голова, мешал тяжелый автомат, почему то катилась по лицу кровь, а может быть кровавый пот и капал на крутые ступени лестницы.
Но все-таки одолел и стал под единственный колокол, выломал гнилые доски перил, посмотрел вниз на площадь, где суетились, бегали и кричали эти г…. макисары, почему то одевшие каски… Впрочем это его теперь мало интересовало, интереснее была даль и лес с горами, где лежал этот лентяй Аверьян, за которым в голубом тумане была Швейцария. Там должны уже быть его бойцы, которые его с нетерпеньем ждали… ждали… но совершенно напрасно. Ведь он не вернется к ним. Даже если бы и захотел, не смог бы. Потому что здесь было куда лучше и интереснее… Боже мой, как жарко светило здесь солнце и так сладко приятно пахли липы и звенели колокола… и сколько народу здесь, сколько их собралось всех, его верных, незабытых им друзей! У пьедестала памятника, с которого они только что стащили этого палача-Сталина.
Он только что кончил свою речь и все бросали шапки вверх и кричали ура, кричали так долго и оглушительно, что ему стало неловко и даже стыдно, потому что в чем то он перед ними был виноват… может быть в том, что говорил он не совсем правду, не совсем то что он на самом деле думал… но в основном они были правы, ибо любил он их всех на самом деле, всех их и их и его несчастную отчизну… А потом у самых своих ног он увидел ее, черноокую, которая была одновременно и
Ниной и Шуркой, оказывается бывают все-таки чудеса в мире! Она протянула ему букет из красно-сине-белых цветов и сказала ему тихо и ласково: «Примите от нас в дар, наш освободитель!»..
Ну как же было ее не поцеловать и не обнять, он стремительно шагнул к ней вниз, как будто, полетел и крепко поцеловал красный теплый рот, вкуса свежей крови, и, чтобы никто не подумал ничего худого, закричал, подняв голову: «Это я вас всех так прижал к моему сердцу, дорогие мои товарищи.»
И все они засмеялись громоподобно, окружили его тесным кольцом и повели в голубую даль… все… Нина, Шура… Степан… Аверьян… Рам… колхозники… агрономы… русские и немецкие бойцы и… многие другие… мертвые, которые вели и его… мертвого… чтобы в последний раз все уточнить и оформить…
ЭПИЛОГ
Прошли года… Давно отзвучали пушки и замолкли самолетные стаи. Давно навеки успокоились и отмучились миллионы погибших. Страна лихорадочно залечивала свои страшные раны. Подрастало новое поколение, дряхлело и уходило с жизненной арены старое. Наступили опять мирные будни, советские будни… с их новыми планами, пятилетками, соревнованиями и с той же постылой, тяжелой лямкой советских людей. Теперь руководить ими стало совсем легко. Ибо в страшном горниле войны погибли последние непокорные, либо сразу расплатились за свои мятежные деяния против советской власти, были уничтожены, либо постелено захирели, дошли до конца своей скорбной жизни, в мерзлых тундрах Заполярья, в дремучей тайге, в унылых степях Туркестана… или рассеялись по всему земному шару, спасаясь от беспощадных мстителей.
Снова стало тихо, спокойно в Союзе республик свободных и… скучно… серо… Когда не было видно просвета во мгле, опустившейся на города, совхозы, колхозы снова покорного народа. Впрочем, как будто, где-то… что-то, в страшной дали незаметно менялось… занималась предрассветная заря… Но было это так далеко, так тускло нереально, что казалось, были это болотные огни, рожденные для того чтобы радовать все-таки живых людей с бессмертными душами… Кто знает?
***В этом году весна была поздняя и только ко второй половине апреля окончательно потеплело в лесах Белоруссии. И праздник первого мая был настоящим праздником ежегодно воскрешающейся природы. На праздник трудящихся вышли толпы народа, мужчин, женщин, юношей, девушек, детей, чтобы множеством флагов и плакатов доказать свою покорность все той же твердой и жестокой власти. День постепенно клонился к вечеру, тихий благоуханный вечер в городе К. Вера Холматова торопилась домой вместе со своим сыном, худеньким высоким мальчиком с темными мечтательными глазами, совсем непохожим ни на мать, ни на отца, знаменитого в свое инженера и партизанского вождя — дядю Ваню.