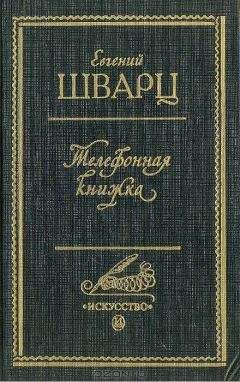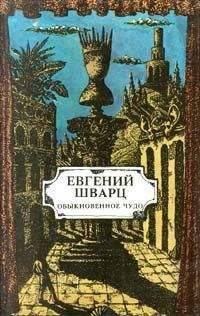Евгений Шварц - Живу беспокойно... (из дневников)
30 апреля
Для того чтобы писать портреты, нужно выбрать расстояние и понимать точно того, кого пишешь. А в этой суете, суете 42 года, я чувствовал себя не портретистом, а частью единого целого. О блокаде я мог писать, а тут я находился – очень уж в середине. Сарра Дмитриевна в свои пятьдесят лет все глядела королевой. Была наблюдательна. Заметила, что артистка эстрады, живущая в том же коридоре, что и она, успевшая со всеми переругаться, разговаривала только сама с собой: «Вот я сейчас чайничек поставлю. Вот и поставила. Вот сейчас картошечку почищу». Заметила она, что старики в семье – обуза, а на старухах весь дом держится. И в самом деле: старики только и делали что сидели на большом сундуке под рупором громкоговорителя, ждали последних известий, а старухи и стирали, и бегали в магазин, и готовили, и смотрели за внуками, – казалось, что на старухах весь дом держится. Однажды в сорокаградусный мороз привез колхозник меду. Вся матовая глыба так замерзла в бочонке, что не поддавалась никаким усилиям. Сам колхозник растерялся. Сарра Дмитриевна подумала и принесла кастрюльку кипятку и нож. Опустила нож в кипяток, и горячее лезвие легко врезалось в замерзший мед. «Золотые руки, – подумал я. – Она чувствует, как обращаться с материалом!» И даже колхозник похвалил ее. Сарра Дмитриевна занимала свое место в жизни твердо, не суетясь и не высовываясь. Королевский титул не позволял. Крупная, спокойная, проходила она через беспокойный наш быт. И гораздо больше, чем Владимир Васильевич[655] , и брала от жизни и отдавала. Когда, примерно в феврале, Радлов[656] и его жена, сестра Лебедевой Анна Дмитриевна[657] выехали из Ленинграда, – как засветилась Сарра Дмитриевна, получив письмо. Я и Никритина как раз были у нее. И она на радостях дала нам прочесть письмо. Радлов кончал письмо так: «Целую твою талантливую мордочку». И я ужаснулся: так это не соответствовало Сарре Дмитриевне с ее королевской сущностью. И когда мы вышли, Никритина призналась, что эта фраза тоже так и резнула ее.
2 мая
Здесь мне легче и интересней всего бывало с Малюгиным. У меня в те дни было очень ясное желание оставаться человеком вопреки всему. И Малюгин, много работавший, чувствовавший себя ответственным за весь театр, грубоватый и прямой, помогал мне в этом укрепиться. И я читал ему «Одну ночь», сцену за сценой.
4 мая
Так или иначе, все более подчиняясь вятскому быту и все менее ему подчиняясь, дописал я пьесу. И была назначена читка на труппе. Большое фойе, наполненное до отказа. Белые стены. Актеры. Никитин и встревоженная Ренэ[658] . В заднем ряду старик Бродский, маленький, со страстным и вместе отсутствующим взглядом выцветающих коричневых глаз. Он глядел в прошлое, презирая настоящее. Он был некогда издателем журнала «Солнце России», за что актеры в высшей степени его уважали. Чтение имело неожиданно большой успех. Выступали многие, даже Никитин, – и все положительно. Театр заключил со мной договор... В театре вообще относились ко мне дружелюбно, а после читки стали совсем ласковы. Не понравилась пьеса только Бродскому, о чем я узнал случайно. Что именно ему не нравится, – не сообщили. Сам же он при встрече со мной ничего не говорил, только глаза его, смотрящие в пространство, страстные и вместе с тем безразличные. Безразличные к нам, нынешним. 9 апреля купил я впервые счетную тетрадь и начал записи. Пятнадцать лет прошло с тех пор.
7 мая
Досталась мне «Цитадель» Кронина, которую прочел я дважды[659] . Вторая половина «Домби и сына». С головой проясненной и с душой, из которой будто выколотили пыль, я с удивлением и восторгом читал Диккенса и боялся, что сестра заглянет в дверь и примет меня за сумасшедшего, – так я смеялся. Меня поражало отсутствие второстепенных лиц в романе. Вплоть до собаки все описаны с одинаковой силой энергии. Ни одного пустого места. Это утешало.
9 мая
«Золушка» в 47 году имела успех. В том же году режиссер Грюндгенс в Театре имени Рейнгардта в Берлине поставил «Тень», и тоже с успехом. После этого пошли неудачи в течение нескольких лет. Правда, мне казалось, что я научился писать прозу. А вместе с тем не мог дописать детскую пьесу[660] . И, насилуя себя, работал для Райкина[661] . И до сих пор помню чувство унижения, нет, заколдованности, когда пытался я переделать чужой роман для Центрального детского театра. И сценарий[662] ... Успех «Обыкновенного чуда» в Москве и тут «Дон Кихот», которого Козинцев будет на днях показывать в Канне[663] .
Лежу, болею, но не слабеет жажда [жизни] самой обыкновенной, уходящей корнями в самую обыкновенную унавоженную землю. И вместе с тем изменение в духовной жизни. Не знаю, что будет. Опять хочется писать. Ну, вот и довел я рассказ до сегодня.
15 мая
Я хочу писать обо всем. Для взрослых. Очиститься от скорлупы детской литературы. Но здесь нужен такт.
18 мая
Жюри в Канне забаллотировало «Дон Кихота». Премия досталась картине «Сорок первый»[664] . Перед этим появились сообщения, что картина «Дон Кихот» прошла с исключительным успехом, что это событие, что впервые за существование романа удалось воплощение его в другом виде искусства, и так далее и так далее. Передавалось это по радио (у нас). В «Советской культуре» напечатаны сообщения «Франс пресс» и агентства «Рейтер», что критика дала высокую оценку «Дон Кихоту»[665] . Если бы всего этого не было, то я ничего бы и не ждал. Тем более что о сценаристе, говоря о фильме, как правило, и не вспоминают. Но все равно есть командное чувство. Команда, в которой ты играешь, за которую ты отвечаешь в большей или меньшей степени, – вдруг проигрывает. И тут неудачу ты чувствуешь, пожалуй, острее, чем удачу.
1 июня
Когда-то в 20-х годах Маршак сказал, что я импровизатор. Шла очередная правка какой-то рукописи. «Ты импровизатор, – сказал Маршак. – Каждый раз твое первое предложение лучше последующего». Думаю, что это справедливо. «Ундервуд» – написан в две недели. «Клад» – в три дня. «Красная Шапочка» – в две недели. «Снежная королева» – около месяца. «Принцесса и свинопас» – в неделю. В дальнейшем я стал писать как будто медленнее. На самом же деле беловых вариантов у меня не было, и «Тень» и «Дракон» так и печатались на машинке с черновиков, к ужасу машинистки. Я не работал неделями, а потом в день, в два делал половину действия, целую сцену. И еще – я не переписывал. Начиная переписывать, я, к своему удивлению, делал новый вариант. Смесь моего оцепенения с опьянением собственным воображением – вот моя работа. Оцепенение можно назвать ленью. Только это будет упрощением. Самоубийственная, похожая на сон бездеятельность – и дни, полные опьянения, как будто какие-то враждебные силы выпустили меня на волю. К концу сороковых годов меня стало пугать, что я ничего не умею. Что я ограничен. Что я немой – так и не расскажу, что видел. Но в эти же годы я невзлюбил литературу – всякая попытка построить сюжет – и та стала казаться мне ложью, если речь шла не о сказках. Я был поражен тем, что настоящие вещи, – в сущности – дневник, во всяком случае в них чувствуешь живое человеческое существо. Автора, таким, каким был он в тот день, когда писал. И я заставил себя вести эти тетради. Но теперь подошел к новой задаче. Отчасти из страха литературности, отчасти по привычке я и тут все писал начисто.