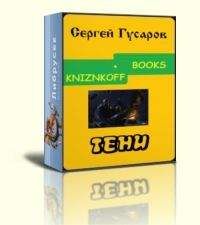Сергей Снегов - Книга бытия (с иллюстрациями)
Она выскочила из вагона первой и побежала ко мне. Я восторженно присвистнул. Новое ее платье было нарядно и хорошо скроено. Нора, правда, была в том возрасте, когда девушкам идет почти все, что они напяливают на себя, — была бы фигура хороша и лицо миловидно. Но обновка не просто украшала Нору — она преображала ее.
— Что вы смотрите на меня как на диковину? — поинтересовалась она.
— Не смотрю, а засматриваюсь, — ответил я. — Вы сегодня неузнаваемы. Не просто хорошенькая (такая вы всегда), не просто красивая — а форменная красавица! От вас глаз нельзя оторвать.
Около Биржи уже толпились зрители. Бойко торговали перекупщики. На юге всегда хватало любителей всяческих представлений — залы, кино- и просто театры никогда не страдали от отсутствия людей. Приезд Мирона Полякина был событием — вся музыкальная Одесса собралась у роскошного здания.
Я поводил Нору по коридорам и фойе, показал бюст строителя Биржи итальянца Бернадоцци, рассказал, какие еще здания и храмы строил в прошлом веке этот зодчий.
— Ничего я не знаю, — огорченно сказала она, посмотрев программку.
— Это и хорошо, — весело отозвался я. — Сегодня начнем ваше знакомство с серьезной музыкой.
Билеты наши были на первый ряд — здесь обычно располагались заслуженные и не очень молодые меломаны. Рядом со мной сидел профессор Варнеке, за ним — два известных в Одессе журналиста: театральный критик Ларго (именно так он подписывал свои статьи), и фельетонист с не менее странным псевдонимом д'Маллори. Они смотрели в нашу сторону — но не на меня, а на Нору. Вероятно, появление в первом ряду юной и красивой девушки показалось им необычным.
Концерт состоял из двух отделений. В первом — Сарасате, Паганини, Сен-Сане, еще кто-то (я уже не помню — кто именно), во втором — «Чакона» Баха.
Полякин заставил себя ждать. Зал немного пошумел, пока его не было, и с минуту поаплодировал, когда он вышел. Затем замолчал.
Я закрыл глаза: слушать Полякина было лучше, чем смотреть на него. Виртуозные пьесы Паганини были прекрасны, но они не так пробирали душу, как «Цыганские напевы» Сарасате, «Рондо-каприччиозо» Сен-Санса и равелевская «Хабанера».
В перерыве Варнеке сказал, обращаясь не то ко мне, не то к Норе:
— Великолепно, правда? Такой серьезный цикл для первого отделения — внушительно! Второе будет потяжелее: «Чакона» — не самая легкая пьеса.
Нора, похоже, была переполнена звуками — она даже пыталась тихонько напеть Сарасате. Я сравнил ее с Фирой. Ни я, ни Саша не могли затащить мою жену на концерты классической музыки, ее интересовали только стихи (причем драматические, а не лирика) и театр. А Нора вдруг стала рассеянной — ее интересовало лишь то, о чем рассказывала скрипка, остальное до нее почти не доходило.
Я, конечно, не раз слышал «Чакону» (как, впрочем, и все остальное, что играл Полякин). Не могу сказать, что она захватывала меня так же, как фортепьянные вещи Баха или его «Страсти по Матфею». А Нора была покорена. Если бы я аплодировал с такой же страстью, у меня бы вспухли ладони и появились мозоли.
Потом Полякин бисировал — по просьбам из зала. Нора крикнула ему (он раскланивался со сцены как раз над нами):
— А я хочу «Чакону»!
Полякин взглянул на нее и сыграл арию Эвридики,[150] переложенную для скрипки. Когда замолкла эта мелодия, одна из самых красивых и печальных в мире, Нора снова крикнула:
— А я хочу «Чакону»!
Варнеке наклонился к ней и ласково сказал:
— Баховская «Чакона» не подходит для бисирования, девушка. На бис скрипачи подбирают вещи полегче. Это ведь конец концерта, Полякин устал.
Нора скосила на него глаза и ничего не ответила. Но когда Полякин снова появился на сцене, она опять крикнула:
— А я хочу «Чакону»!
Ее звонкий голос разнесся по всему залу. Я вдруг ощутил, что, став громким, он одновременно стал необыкновенно красивым, по-особому, захватывающе мелодичным. И это почувствовал не один я. Ларго и д'Маллори привстали, чтобы лучше разглядеть, кто кричит. Они улыбались — им нравилась и эта девушка, и ее просьба. В задних рядах тоже приподнимались. Смех заглушал аплодисменты. Полякин раскланивался, держа скрипку в опущенной руке.
Нора крикнула еще звонче:
— А я хочу «Чакону»!
Тогда Полякин наклонился в ее сторону и громко сказал:
— «Чакона», барышня!
Он сыграл ее, конечно, не целиком, только фрагмент, — но аплодировали ему дольше и горячей, чем за все второе отделение. И часть этого восторга предназначалась Норе. На этом концерт закончился. Публика, шумно беседуя, освобождала зал. Варнеке обратился к Норе.
— Поздравляю вас, девушка, вы добились удивительного результата. Полякин бисировал вещью, отнюдь для того не предназначенной. — Он повернулся ко мне. — Между прочим, в Одессу скоро приезжает другой отличный скрипач — Михаил Эрденко.
— Непременно придем! — быстро ответила Нора.
Мы возвращались почти не разговаривая, — она все не могла освободиться от музыки, а я не хотел ей мешать. Только у самого дома она вдруг спросила:
— Вы не сердитесь, что я за вас согласилась слушать этого нового скрипача… как его?
— Эрденко. Не только не сержусь — я даже обрадовался. Что будем делать до его приезда?
— А что вы предложите?
— Предлагаю пойти в украинский драматический театр. Там объявлено «Укрощение строптивой» Шекспира. Петруччио играет Шуйский, а Катарину, если не ошибаюсь, прекрасная Наталия Ужвий. Спектакль должен стать сенсацией, потому что Шуйскому год или два запрещали играть — как украинскому националисту. Сейчас его простили — и он появится на сцене после долгого перерыва. Не знаю только, удастся ли достать билеты.
Достать билеты удалось. Зал был полон, в каждом ряду стояли приставные стулья, у стен теснились допущенные «безбилетники». Среди них были и строгие стражи порядка в неприметных костюмах — видимо, опасались националистских скандалов по случаю реабилитации Шумского. Но общественных дебошей уже никто не устраивал, время открытых (да и тайных) выступлений давно закончилось.
Зато театр порадовал сценической отсебятиной, очень сдобрившей текст Шекспира. Когда занавес поднялся, из-за кулис показался загримированный Шуйский и неторопливо прошелся по сцене, громко похлестывая себя плеткой по голенищам. Он ничего не говорил: появления Петруччио до пролога драматург не предусматривал и слов ему не дал, а словесной отсебятины Шумский себе не позволил. Он был хорошим актером — а может, побаивался нового наказания (оно могло оказаться похуже первого). Но хлесткая плетка говорила за него — и зал восторженно хохотал и бил в ладоши, пока Петруччио не прошествовал из левой кулисы в правую.