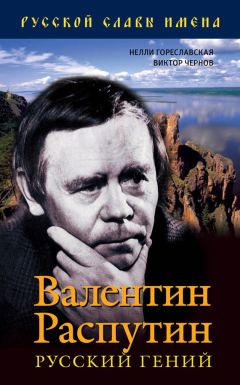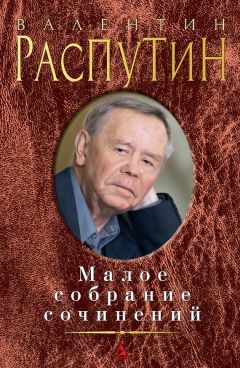Джованни Казанова - История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 2
— Это правда, мы в этом уверены, но заметь, прошу тебя, что то, что нам дает эту уверенность, это вера.
— Я это знаю; но вы не становитесь от этого менее идолопоклонниками, потому что то, что вы видите, — это только материя, и ваша уверенность основана на этом видении, по крайней мере, пока ты мне не скажешь, что вера это отрицает.
— Бог меня сохрани сказать тебе такое, потому что, наоборот, вера от этого становится крепче.
— Это иллюзия, в которой, слава Богу, мы не нуждаемся, и в мире нет такого философа, который мог бы убедить меня в необходимости этого.
— Это, мой дорогой отец, относится не к философии, но к теологии, которая намного выше первой.
— Ты говоришь на том же языке, что и наши теологи, которые, однако, отличаются от ваших тем, что не используют свою науку для того, чтобы сделать истины, которые мы должны понимать, более темными, а не наоборот, более светлыми.
— Подумай, мой дорогой Юсуф, о таинстве.
— Существование Бога — одно из них, и достаточно великое, чтобы люди не смели ничего к нему добавить. БОГ может быть только прост, это тот БОГ, о котором возвестил нам его пророк. Согласись, что нельзя ничего добавить к его сущности, чтобы не разрушить его простоту. Мы говорим, что он един, вот образ простоты. Вы говорите, что он один и их три в одно и то же время: это определение противоречивое, абсурдное и кощунственное.
— Это тайна.
— Ты говоришь о Боге или об определении? Я говорю об определении, которое не должно быть тайной и которое разум должен отвергнуть. Здравый смысл, дорогой сын, должен считать неуместным утверждение, суть которого абсурдна. Докажи мне, что три это не есть соединение или может им не быть, и я сразу стану христианином.
— Моя религия мне предписывает верить не рассуждая, и я трепещу, дорогой Юсуф, когда думаю, что в результате сложного рассуждения могу прийти к религии моего дорогого отца. Следовало бы начать с того, чтобы убедиться, кто же ошибается. Скажи мне, могу ли я, опираясь лишь на свою память, допустить себя в качестве своего собственного судьи, с намерением произнести осуждающий приговор.
После такого упрека я увидел, что почтенный Юсуф смущен. После двухминутного молчания он сказал, что, строя свои мысли таким образом, я могу быть только угоден Богу и, соответственно, спасен, но если я нахожусь в заблуждении, только Бог может из него извлечь, потому что он, Юсуф, не знает человека праведного, который был бы в состоянии опровергнуть чувство, которое я ему описал.
Мы говорили и о других вещах, очень доброжелательно, и к вечеру я покинул его, получив бесконечные изъявления самой чистой дружбы.
Идя к себе, я размышлял о том, что все, сказанное Юсуфом о сущности Бога, вполне правдоподобно, потому что, очевидно, вещь в себе (l’être des êtres) не может не быть, в сущности, наиболее простой из всех вещей; однако невозможно допустить, что, исходя из предположения об ошибочности христианской религии, я мог бы дать убедить себя стать турком, который может излагать вполне правильное представление о Боге, но способен лишь рассмешить меня со своей доктриной как самый экстравагантный из обманщиков.[14] Однако я не думал, что Юсуф хотел сделать из меня прозелита.
Когда я обедал с ним в третий раз и разговор, как всегда, зашел о религии, я спросил у него, не уверен ли он, что его религия — единственная, которая может привести смертного к вечному спасению. Он ответил, что не уверен в том, что она единственная, уверен, что христианская ошибается, потому что она не может быть универсальной.
— Почему?
— Потому что на двух третях земного шара нет ни хлеба, ни вина. Заметь, что Коран может быть принят везде.
Я не знал, что ему ответить, и не пытался слукавить, заявив однако, что Бог не материален и должен быть духом, на что он ответил, что мы могли бы знать, что его нет, но не то, что он есть, и что, соответственно, мы не могли бы утверждать, что он дух, потому что можем иметь о нем только абстрактную идею.
— Бог, — сказал он, — имматериален: вот все, что мы знаем, и мы никогда не узнаем больше.
Я вспомнил Платона, который говорил то же самое, но Юсуф, несомненно, не читал Платона[15].
Он мне сказал в тот день, что существование Бога полезно только для тех, кто в этом не сомневается, и что, соответственно, самые несчастные из смертных — атеисты.
— Бог, — сказал он, — сотворил человека по своему подобию потому, что среди всех созданий только человек может выразить благодарность за свое существование. Без человека Бог не имел бы никакого свидетеля своей славы; и человек, соответственно, должен понимать, что его первейшая обязанность есть прославлять вершителя правосудия и довериться Провидению. Смотри, как Бог никогда не покинет человека, который в своих бедствиях преклоняется перед ним и взывает о его помощи; и оставляет гибнуть без надежды несчастного, который полагает молитву бесполезной.
— Есть, однако, счастливые атеисты.
— Это правда; но, несмотря на спокойствие своей души, они, мне кажется, достойны сожаления, потому что не надеются ни на что после этой жизни и не воспринимают себя выше животных. Кроме того, они должны были бы томиться в невежестве, если они философы, и если они ни о чем не думают, у них не на что опереться в несчастье. Бог, наконец, создал человека таким, что он может быть счастлив, только не сомневаясь в своей божественной сущности. Каково бы ни было его существование, он имеет необходимую потребность его принять; без этой потребности человек никогда бы не воспринял Бога создателем всего.
— Но я хотел бы понять смысл, почему атеизм существует только в системах некоторых ученых, в то время как нет примера, чтобы он существовал в системе целой нации.
— Это так же, как бедный чувствует свои нужды гораздо сильнее, чем богатый. Среди нас есть много безбожников, которые насмехаются над верующими, возлагающими свои надежды на паломничество в Мекку. Несчастные! Они должны уважать древние монументы, которые, возбуждая благоговение верующих, питают их религию и облегчают их страдания в бедствиях. Без этих утешительных объектов невежественный народ впадет во все эксцессы отчаяния.
Юсуф, польщенный вниманием, с каким я слушал его доктрину, все больше предавался склонности меня поучать. Я стал проводить дни у него без приглашения, при этом его дружба становилась крепче. Однажды утром я приказал отвести себя к Исмаилу эфенди, чтобы позавтракать с ним, как обещал; но этот турок, встретив меня и приветствовав наилучшим образом, пригласил прогуляться с ним по маленькому саду, где в комнате отдыха ему пришла в голову фантазия которую я счел не в моем вкусе: я сказал ему со смехом, что я не любитель этих дел, и, наконец, утомленный его нежной настойчивостью, я поднялся, немного слишком резко. Исмаил, делая вид, что одобряет мое отвращение, сказал мне, что пошутил. После дежурных комплиментов я покинул его с намерением больше не возвращаться к нему; однако я был вынужден, и мы поговорим об этом в соответствующем месте. Когда я рассказал г-ну де Бонневаль эту историйку, он сказал, что по турецким представлениям Исмаил хотел мне выдать высокий знак своей дружбы, однако что я могу быть уверен, что он не преложит мне больше ничего подобного, если я вернусь туда еще раз, кроме того, Исмаил очень галантный мужчина, у которого имеются рабы замечательной красоты. Он сказал, что вежливость требует, чтобы я туда еще вернулся.