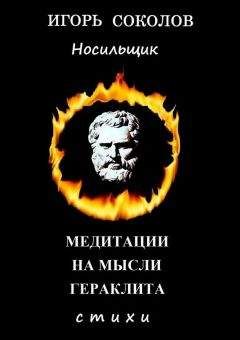Александр Замалеев - М. А. Фонвизин
На фоне этих рассуждений Лунина особенно рельефно проявляется демократическая тенденция Фонвизина. В самом деле, устанавливая идейную преемственность между декабристской политической теорией и общинно-демократическими стремлениями крестьянских масс, он фактически становился на революционно-демократические позиции. Но в силу этого же (что кажется парадоксальным на первый взгляд) он отвергал необходимость народного восстания и ориентировался исключительно на тактику военной революции. Фонвизин не только не верил в положительный успех крестьянского выступления, что явствует из его критического отношения к пугачевскому бунту (см. 31, 484), но считал совершенно недопустимым «национальное кровопролитие». Он сознавал, что крестьянство способно лишь на стихийный бунт против своих непосредственных угнетателей — помещиков (это, кстати, не отрицал и Герцен), тогда как требуется организованная борьба с самодержавием.
Заслуги декабристов он видел как раз в том, что они первыми создали тайную военную организацию, поставившую цель насильственной реализации истинных стремлений народа, но без его прямого участия в государственном перевороте. Поражение декабристов Фонвизин объяснял прежде всего нерешительностью и бездействием предводителей. «Если б отряд, вышедший на Сенатскую площадь,— писал он, — имел предприимчивого и отважного начальника и вместо того, чтобы оставаться в бездействии на Сенатской площади, он смело повел бы его до прибытия гвардейских полков ко дворцу, то мог бы легко захватить в плен всю императорскую фамилию. А имея в своих руках таких заложников, окончательная победа могла бы остаться на стороне тайного общества» (8, 97).
Трудно судить, насколько был прав Фонвизин в последнем утверждении, однако в целом его ориентация на военную революцию представляется нам более реалистичной, нежели позиция Герцена, ибо верить, что крестьянство, веками жившее под игом крепостного рабства и политического невежества, способно было самостоятельно преобразовать государственную систему на республиканских началах, означало быть утопистом.
Итак, Фонвизин отвергал участие народа в революции в интересах, как он считал, самого народа. Он полагал, что народные восстания вызывали лишь усиление самодержавного деспотизма и ослабляли дворянство — единственное в России сословие, «которое, будучи просвещеннее, образованнее других сословий, имеет что-то похожее на политические права и... обладает некоторою самостоятельностью...» (13, 106). Он не идеализировал дворянство, напротив, показывал его консерватизм, резко бичевал крепостное право, позволявшее ему «самовластвовать» над русскими крестьянами... Но вместе с тем именно в нем Фонвизин видел силу, способную «в видах общей народной пользы» насильственно уничтожить абсолютизм и преобразовать общественные отношения на республиканско-демократических началах.
Важно иметь в виду и то, что Фонвизин не абсолютизировал «ограниченную», военную революцию, не возводил ее до единственного вообще способа борьбы с деспотизмом. Он признавал ее приемлемой только для России, и только потому, что в России «не было и теперь почти нет пролетариата» (14, л. 14 об.). Появление пролетариата, считал Фонвизин, решительно изменяет соотношение политических сил в стране, ибо он становится главным участником «социальных переворотов». Благодаря пролетариату, писал он, «произошли все революционные движения» на Западе (см. 14, л. 11 об.).
Таким образом, военная революция представлялась Фонвизину годной лишь применительно к русским условиям, и этим он объяснял различие в историческом развитии России и Запада.
В 40—50-х годах XIX в. проблема национального своеобразия России стала одной из животрепещущих тем русской социологии. Разработкой ее занимались и славянофилы, и западники. Несмотря на различия исходных принципов, которые они брали за основание собственных концепций, их объединяла общая политическая позиция: стремление противопоставить «рассудочности» Запада «разумность» России, революционным преобразованиям — «органическое развитие».
Русская история, доказывал, например, западник Кавелин, представляет совершенную противоположность истории западных государств. «...История, — писал он, — вполне предоставила нас нашим собственным силам. Это еще более справедливо, если мы вспомним, что мы не сидели на плечах у другого народа, который... мог бы сообщить нам... плоды своей высшей цивилизации» (38, 24). Россия, уверял Кавелин, развивалась из «самой себя», не привнося в свой общественный быт никаких внешних заимствований.
Славянофилы, как и Кавелин, высказывали мысль о «несхожести» России и Запада, но выводили ее из различий религиозного характера. Россия, рассуждал Киреевский, переняла христианство от Византии, поэтому «постоянно находилась в общении с вселенскою церковью». Она не уклонилась, подобно Западу, в рассудочную отвлеченность и грубо-чувственный материализм при столкновении с образованностью древнего языческого мира. Она начала усваивать результаты «наукообразного просвещения» античности только тогда, когда окончательно утвердилась в «образованности христианской».
Совсем иначе, на взгляд Киреевского, обстояло дело на Западе. Христианство, проникнув на европейские земли, встретилось с «громадным затруднением» — с образованностью римской; под воздействием этой образованности «богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности» и сделалось источником стремлений «к личной и самобытной разумности в мыслях, в жизни, в обществе и во всех пружинах и формах человеческого бытия». Оттого на Западе единственным средством «улучшения» общественных и гражданских отношений становится «насилие» (см. 43, 174—222).
Фонвизин хорошо знал славянофильские теории и относился к ним отрицательно, считая, что славянофилы «восстают» против Запада «в угодность правительству, возненавидевшему европеизм». Но он тем не менее много занимался проблемой своеобразия исторических путей развития России и Запада, чтобы теоретически обосновать свой тезис о возможности в России только военной, «ограниченной» революции. Он, как отмечалось выше, исходил из того, что в России нет пролетариата, который мог бы произвести «социальный переворот». Стремясь разобраться в причинах, обусловивших «сословные» различия между Россией и Западом, он предпринимает исторический анализ тех социально-экономических факторов, которые породили европейский пролетариат.
К этому вопросу декабристы обращались и до Фонвизина, в частности в начале 30-х годов данному вопросу много внимания уделял Н. А. Бестужев. Фонвизин читал рукопись его книги «О свободе торговли и вообще промышленности» (1832 г.) и целиком разделял сформулированные им выводы. Бестужев пытался, опираясь на конкретный экономический материал, обосновать пестелевское положение о неприемлемости для России западноевропейского пути развития. Но если Пестель отрицал этот путь потому, что он привел к появлению буржуазии («аристокрации богатств»), которая еще больше расстроила политическое «бытие» народа, поставив его в полную зависимость от «богатых» (см. 35, 2, 145), то разочарование в западноевропейской действительности Бестужева было связано главным образом с его отношением к пролетариату как «бедственной язве», являющейся аналогом «русского зла» — крепостного рабства крестьян.