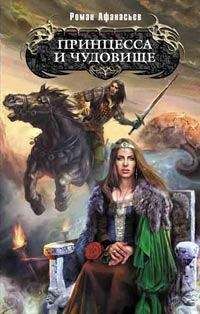Джованни Казанова - История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 3
Два-три дня спустя дю Буа, которому де ла Хайе все рассказал, пришел меня повидать, и я начал выходить. Я пошел в комедию, где познакомился с корсиканскими офицерами, которые служили в королевском итальянском полку в составе французских войск, и с молодым сицилийцем по имени Патерно, замечательным повесой. Этот молодой человек был влюблен в актрису, которая издевалась над ним, развлекая меня описанием его замечательных качеств и, одновременно, своего жестокого с ним обращения у него дома, где она ускользала каждый раз, когда он хотел оказать ей знаки своей нежности. Она разоряла его, заставляя помногу тратиться на обеды и ужины в широком кругу, в то же время не давая взамен никакого вознаграждения.
Хорошо изучив эту женщину в театре и найдя в ней некоторые достоинства, я заинтересовался ею, и Патерно с удовольсьвием отвел меня к ней. Сочтя дело легким и зная, что она бедна, я не сомневался, что получу ее милости, потратив пятнадцать — двадцать цехинов. Я рассказал свой проект Патерно, который ответил, смеясь, что мне не бывать больше у нее, если я осмелюсь сделать ей это предложение. Он назвал мне офицеров, которых она не захотела больше видеть после того, как они обратились к ней с подобными предложениями, но сказал, что будет счастлив, если я сделаю попытку, и что после я буду должен дать ему честный отчет о происшедшем. Я обещал ему, что расскажу обо всем.
Это произошло в ложе, где она переодевалась, чтобы играть в комедии; я оказался наедине с ней и, дав ей полюбоваться моими часами, предложил ей их, в обмен на ее милости. Она ответила мне, вернув часы, совершенно в соответствии со своим катехизисом:
— Порядочный человек, — сказала она, — не может делать таких предложений, пригодных только для шлюхи.
Я вышел от нее, сказав, что для шлюхи я предложил бы только дукат.
Когда я отчитался перед Патерно в этой историйке, я увидел, что он торжествует; но его настоятельные приглашения стали напрасны: я больше не хотел быть в числе ее гостей, гостей очень скучных, где вся семья актрисы насмехалась над глупостью того, кто за них платил.
Шесть-семь дней спустя Патерно мне сказал, что актриса пересказала ему всю историю, как я и рассказывал, и добавила, что я не хожу больше к ней из страха, что она поймает меня на слове, если я повторю снова подобное предложение. Я поручил сказать вертопраху, что приду к ней еще, но не только не повторю прежнего предложения, но даже откажусь от нее, если она даже отдастся мне даром.
Этот молодой человек настолько хорошо повторил ей мои слова, что задетая ими актриса поручила ему сказать мне, что запрещает бывать у нее. Твердо решив показать ей, что я ее презираю, я снова зашел в ее ложу в конце второго акта пьесы, где она уже кончила играть. Спровадив тех, кто там у нее был, она сказала мне, что имеет кое-что мне сказать.
Она заперла дверь, затем, сев ко мне на колени, спросила, правда ли, что я ее так презираю. Мой ответ был короток. Я взялся за дело и, не думая торговаться, она отказалась от всякой сдержанности. Будучи, однако, как всегда, далеким от сантиментов, совершенно неуместных, когда умный мужчина имеет дело с женщиной такого сорта, я дал ей двадцать цехинов, которые понравились ей гораздо больше, чем мои часы. Потом мы вместе посмеялись над глупостью Патерно, который не понял, как кончаются вызовы подобного рода.
На другой день я сказал ей, что мне просто было скучно, и что я хотел лишь развеяться и не приду к ней больше, мне не интересно. Но, сдержав данное слово, через три дня я обнаружил, что был утешен бедной несчастной, как до того проституткой у д'Онейлана. Не считая себя в праве жаловаться, я был подлинно наказан за то, что так мерзко пал, после того, как был возвышен Генриеттой.
Я счел себя обязанным поделиться новостью с де ла Хайе, который обедал со мной каждый день, не скрывая своей бедности. Этот человек респектабельного возраста и происхождения передал меня хирургу по фамилии Фремон, который заодно был и дантистом. Некоторые известные ему симптомы привели его к мысли, что мне надо применить сильное лекарство. Это лечение вместе с погодой заставило меня провести шесть недель в своей комнате.
1749. Но за эти шесть недель я в компании с де ла Хейе подхватил болезнь гораздо более тяжкую, чем v… [11], которой не считал себя подверженным. Де ла Хейе, который покидал меня только на час по утрам, чтобы пойти помолиться в церковь, сделал меня набожным, и настолько, что я решил, вместе с ним, что должен быть счастлив, заполучив мою болезнь, которая принесла спасение моей душе. Я искренне возблагодарил Бога, который через посредство ртути привел мой разум, ранее погруженный во тьму, к свету правды. Несомненно, это изменение системы моих представлений произошло от ртути. Этот металл, нечистый и всегда очень опасный, настолько ослабил мой разум, что я, по-видимому, очень плохо соображал в тот момент. Я решил после выздоровления начать вести совсем другую жизнь. Де ла Хейе часто плакал вместе со мной от сочувствия, видя меня плачущим в действительном раскаянии и пребывающим на том неправильном пути, по которому брела моя бедная больная душа. Он говорил со мной о рае и о делах иного мира, как будто бывал там лично, и я не смеялся над ним. Он заимел привычку обращаться к моему разуму по вопросам, спрашивать о которых было глупостью. Неизвестно, заявил он мне однажды, создал ли бог мир во время весеннего равноденствия или осеннего.
— Относительно сотворения, — ответил я ему, несмотря на ртуть, — вопрос наивный, потому что установить время года можно лишь для определенной части Земли.
Де ла Хейе убеждал меня, что я должен перестать рассуждать подобным образом, и я соглашался. Этот человек был иезуитом, но не только не хотел в этом признаваться, но не выносил, когда ему это говорили. Вот рассуждение, в котором он достиг однажды вершин извращения:
— Выучившись в школе, изучив с некоторым успехом науки и искусства и проведя двадцать лет в университете Парижа, я стал служить в инженерных войсках и опубликовал, без указания своего имени, некоторые работы, которые используются сейчас во всех школах для обучения молодежи. Не будучи богатым, я занялся воспитанием нескольких мальчиков, которые блистают теперь по всему миру, не столько своими талантами, как нравами. Мой последний ученик — это маркиз Ботта. В настоящее время, не имея занятия, я живу, как вы видите, надеясь на бога. Уже четыре года я знаком с бароном де Бавуа, молодым швейцарцем, родом из Лозанны, сыном генерала того же имени, того, у которого полк на службе герцога Моденского, и который имел несчастье слишком много о нем разговаривать. Молодой барон, кальвинист, как и его отец, не желая жить праздной жизнью, которую вел у отца, настойчиво просил дать ему те же наставления, которые я давал маркизу Бота, чтобы заняться профессией войны. Обрадованный возможностью обучать его в его благородной склонности, я покинул все остальные занятия, чтобы целиком посвятить себя этому. В беседах, которые я вел с молодым человеком, я постепенно открыл, что, как он сам понимает, в религиозном смысле он подвергается опасности. Этим он был обязан взглядам, царящим в его семье. Открыв ему глаза на этот его секрет, я легко показал ему, что речь идет о важнейшем деле, поскольку от него зависит вечное спасение. Пораженный этой истиной, он предался моим заботам. Я отвез его в Рим и представил папе Бенуа XIV, который, после его отречения от своей веры, дал ему должность в войсках герцога Моденского, где он и служит сейчас в качестве лейтенанта. Но этому дорогому прозелиту, которому сейчас только двадцать пять лет, имеющему только семь цехинов в месяц, не хватает на жизнь. Эта перемена религии привела к тому, что он не получает ничего от своих родственников, которых его отступничество повергло в ужас. Он будет вынужден вернуться в Лозанну, если я его не поддержу. Но увы! Будучи сам бедным и без должности, я могу поддержать его только подаяниями, которые я передаю ему по мере возможности, от добрых душ, которые знаю. Мой ученик, имея благодарное сердце, хотел бы знать своих благодетелей, но они не хотят, чтобы о них знали, и они в этом правы, поскольку милостыня перестает быть делом похвальным, если тот, кто ее совершает, не избегает проявлений суетности. Что касается меня, у меня, слава богу, нет причин их иметь. Я слишком счастлив возможности послужить отцом молодому новообращенному, и участвовать, в качестве слабого инструмента, спасению его души. Этот хороший и добрый мальчик доверяет только мне. Он пишет мне два раза в неделю. Скромность не позволяет мне дать вам почитать эти письма, но вы бы заплакали, если бы их прочли. Это ему я отправил позавчера три луи, которые у вас попросил.