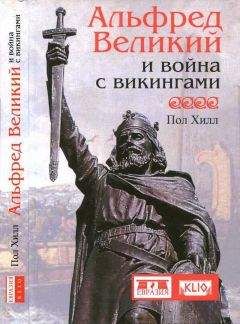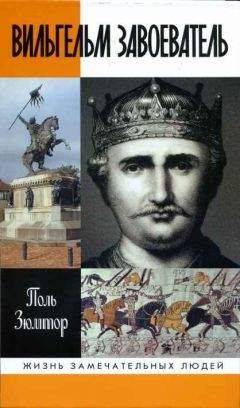Альфред Перле - Мой друг Генри Миллер
— Самым обычным — вдыхая жизнь в ноздри, как сказано в Библии. Это, конечно, палка о двух концах: играя с творческим гением, всегда можно нарваться на неприятности. Ведь даже сам Господь Бог, сколь бы всемогущ и всеведущ Он ни был, подвергал Себя определенному риску. Библейские сказания, представляющие Господа Бога жестоким старым деспотом, неубедительны. Какое же удовольствие может извлечь создатель из того простого факта, что его детище всецело остается в его власти? Да никакого! Он должен идти дальше. Создав творение, создатель должен устраниться. Цель акта творчества — дарить жизнь, не более. Перерезав пуповину, необходимо предоставить своему детищу дальше следовать своим ходом. Но ведь как он, создатель, поступает в том случае, если все идет не как по писаному? Всякий уважающий себя создатель должен отпустить свое потомство на все четыре стороны, иначе какую славу он может снискать у замаринованных в раю херувимов? Ты ведь понимаешь, Лиана, к чему я клоню? В глубине души Генри наверняка сознает, что Джун — последняя сучка, но он не в силах ее изменить. Он жертва собственного детища!
Лиана с нетерпением дослушала мои пространные разглагольствования.
— Все, что я знаю, — это что у меня голова идет кругом! — воскликнула она. — Тебе известно, что он по-прежнему присылает мне копии всего, что пишет? Вчера вечером пришла очередная порция — тридцать страниц в один интервал о страсти к другой женщине! Я читала и перечитывала их всю ночь. — Слезы показались в ее глазах, когда она снова заговорила срывающимся голосом. — Для меня такая пытка читать всю эту писанину, и все же я читаю с удовольствием. Он употребляет слова, которые режут меня по живому. У него есть строчки, отравляющие мои мечты, — мелкие интимные штрихи ее поведения, ее манерность. О боже, Фред…
Она расплакалась прямо посреди просторного salle des pas perdus[65], a мне нечего было сказать ей в утешение.
— Да полноте, Лиана, полноте, полноте, — твердил я, как идиот.
— И все, что ты мог придумать, — это сказать мне, что он ее выдумал! — в сердцах крикнула она, задыхаясь от рыданий. — Какая разница, любит он реальную женщину или всего лишь проявленный женский образ, если ни одна из них не я?
— Разницы никакой, — согласился я.
— Странно, что я не могу заставить себя ее возненавидеть, — мрачно продолжала она. — Можешь ты понять, что на самом деле я сама в нее влюбилась?
— Лучше бы ты влюбилась в меня, — ответил я шутливым тоном. — Хотя бы чуть-чуть, чтобы проучить этого олуха. Заставить его ревновать… глядишь, он бы и опомнился.
В ответ на мое предложение Лиана рассмеялась и заявила, что на ее вкус это чересчур банально.
— Я бы скорее воплотила все это в танце, — присовокупила она с самоуничижительной улыбкой.
Ее дом в Шантильи{91} был тих и прекрасен, словно заколдованный замок. Вижу, как она сидит за письменным столом на узком, в стиле Людовика XIII, стуле с высокой спинкой, устремив взор в глубину того самого личного мира, в котором все видится в ином свете — свете не очень реальном, окрашенном безымянным цветом. Необыкновенной белизны руками она украшала свое эфирное существо для бракосочетания, которому так и не суждено было состояться. Даже ее мысленные образы приобретали какой-то магический аспект — как те предметы, что существуют лишь отраженными в спокойной глади водоема. Из чистой деликатности она могла самой себе говорить вещи, которых, из чистой же деликатности, не могла сказать никому другому.
8Все тот же каменный мешок…
Надежда — штука скверная. Значит, ты еще не стал кем хотел. Значит, что-то в тебе мертво — если не все. Значит, ты тешишь себя иллюзией. Это какой-то духовный триппер, я бы сказал.
Мудрость эта извлечена из эссе «Мир! Что может быть лучше!», и я привожу ее здесь, поскольку у меня всегда было подозрение, что Генри умышленно культивировал ситуацию «каменного мешка»: видимо, она отвечала той любопытной мазохической струнке в его духовной структуре, о которой я уже имел случай упомянуть. Или, может, он просто чувствовал облегчение, когда упирался в стену: значит, дальше все пойдет на лад. Ему никогда не приходило в голову, что рядом, напротив стены, может оказаться взвод стрелков, снаряженный для приведения в исполнение смертного приговора; он бы и ухом не повел при звуке команды «пли!». В глубине души он был таким отчаянным оптимистом, что не терял надежды даже в безнадежности.
Так, стало быть, каменный мешок — но теперь уже каменный мешок иного сорта! Каменный мешок с шелковисто-резиновым подбоем, уютный, как роскошное чрево, с мягкими канапе и тростями, ночниками и «Словарем XX века» Шамбера, кофемолками, галошами и часами с кукушкой. Ну а трехразовое питание было ему почти гарантировано.
Генри разрешил наконец проблему кормежки, и, между прочим, весьма хитроумным способом. На все сто. При том, что он был американцем, ему хватало германских атавизмов, чтобы устранять проблемы методично и раз и навсегда. Он заключил уговор с друзьями и занес их имена в картотеку — по карточке на каждого, по двое в день: один — на обед, другой — на ужин. В случае двухразового питания (с завтраком он и сам мог справиться) ему требовалось всего четырнадцать друзей, при условии что каждый будет обеспечивать ему кормежку раз в неделю. К этому времени друзей у него набралось гораздо больше четырнадцати, так что ему не стоило труда произвести среди них отбор наиболее сведущих в изысках cuisine bourgeoise[66]. Затем он установил график очередности и уведомил всех, с кем решил делить трапезу, о дне и часе своего визита. Все оказалось элементарно. С четырнадцатью друзьями он управлялся, как Белоснежка с семью гномами. И все были необычайно рады видеть его у себя за столом. Генри был отличной компанией: за кормежку он щедро расплачивался разговорами, а иногда разыгрывал клоунаду или, как бы взамен чаевых, совершал маленькое чудо. Временами он даже гулял с детьми хозяев дома. Или же мыл посуду и делал уборку, а то и занимался любовью с хозяйкой. Он никогда не упускал случая сделать ответный жест.
Генри больше не жил у Осборна на Марсовом поле. Признаться, ménage â trois[67] оказалась совершенно неприемлемой. К тому же при своем неугомонном характере он постоянно нуждался в смене декораций. Адреса он менял, как беглый каторжник.
На данный момент ему повезло. Он снял вполне благопристойную квартирку на Вилле Сёра{92}. Иначе говоря, Майкл Френкель, которому принадлежал дом, выделил ему угол в собственной гостиной. Место было замечательное — просторная мастерская с примыкающими к ней спальней, ванной комнатой и кухонькой, оформленной в изящном вкусе.