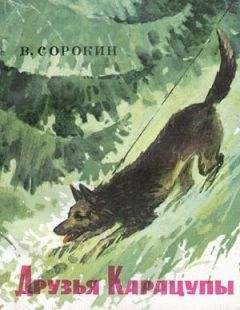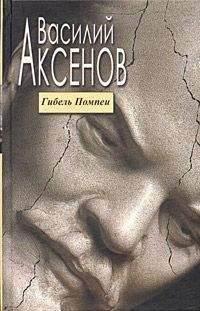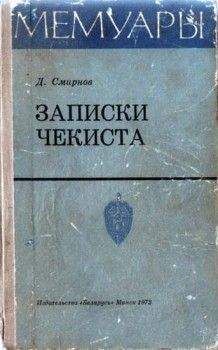Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий
Приходилось молча терпеть ужасный факт: печенегом ворвался Бугаев, все доказал, объяснил; и — ушел.
И это не смешно для отца, а плачевно… для Стороженки. А маски с вещателей «общих дум» очень любил срывать мой отец; но это — черта фамильная; все Бугаевы — спорщики, срыватели масок: такие «смешные»! Приходят, машут руками; вот только — почему-то все молчат: не возражают; подбегающий и машущий на Толстого Бугаев-старик — одна картина; а вот как меня характеризует Илья Эренбург: «Читает… и, читая, руками машет… И порою Белый кажется великолепным клоуном» (Эренбург. «Портреты русских поэтов»)43. Из этого моего вида Эренбург делает горько лестные выводы о моей смешной исключительности; я должен разочаровать Эренбурга, отблагодарив его за то, что смешные жесты мои им не поданы с «линниченковским» подхихиком; в том, что видится Эренбургу во мне, как вершинность, смешная в долинах, — самая эмпирическая, фамильная черта; все Бугаевы — такие: сын, отец, дяди.
И я знаю прекрасно свои смешные стороны; знал их и отец; и прекрасно видел, как смеялись над ним. Когда этот смех был добродушен, он сам принимался смеяться; но и злой хихик чуял он; и — ожесточался; впрочем, был он отходчив; он часто слышал:
— У Стороженки все основано на позе: скажет и забегает глазками по сторонам, наблюдая за впечатлением.
Отец обрывал:
— Оставь, знаешь ли: добряк, хохол, хлебосол… У каждого — свое.
И сидел в большой нежности; и пленительно улыбался на нас.
2. Остраннитель быта
Отец — первый мне встретившийся идеологический спутник, поведший меня по годам: к рубежу двух столетий; поздней мне связался со сказкою Андерсена; и сказка та — «Спутник»;44 в годах представлялось: отец, получив указания где-то, что делать, «пройдя по векам напрямик, перерезав большую дорогу, явился звониться: к нам в комнаты — с очень набитым портфелем, набитым „заветами“; ныне — невидимо служит и тайно всем нам образует» («Крещеный Китаец», стр. 216). Большая дорога, — история мира: Арбат; но история, свертывая, чрез Арбатскую площадь, Воздвиженку и Моховую, начало берет в заседанье Правления университета, где было все создано: мир, Арбат, мы и прочее.
Отец представлялся двуликим: одной стороной бытия заседает он; и в результате — бытийствует мир; другой стороною сидит в малой клеточке этого мира, в квартире у нас; и его все гоняют из комнаты в комнату: за математику. Он математикой этой мешает нам жить; и конфузится сам неприличию жизни такой; кто живет там с друзьями, кто с родственниками, кто с женой; а отец — с математикой.
Противоречие в осознаванье отца углублялось действительным противоречием, в нем жившим: меж чувством и мыслью, с одной стороны, и меж волей; нежнейшие чувства: душа, как мимоза; нежнее, отзывчивей я не встречал человека; услышит, что кто-то горюет, — спешит утешать, возвышать:
— Нет жизни, — бывало, печалится тетя.
— Да полноте! — и начинает теперь из него погрохатывать выливнем слов и — зажигало закаты; выхватывал он из себя уверения в том, что достоинство — да! — человека огромно…
— Смотрите бодрее!
«И раскидавшись ладонями, он собирал… материал переплаканных слов, превращая его… в бирюзовые ливни, в перловые ясности…; духом исходит на нас; на паркеты квартиры, напоминая Сократа пред ядом» («Крещеный Китаец», стр. 208).
Умел он привзбадривать.
Видом свиреп, а услышит, как кто-нибудь песню поет, умилится; и сам любил он откровенную песенку:
Стонет сизый голубочек45.
Услышит — сияет улыбкой пленительной.
Мысли: он в мыслях взворачивал самое представленье о связи наук; и порою меня, «декадента», сражал он полетами, смелостью, дерзостью математических выводов, к жизни приложенных; выскажет; и вдруг припустится мысль остраннять в каламбурище. Передавали: за ужином у С. А. Усова раз при Толстом он пустился в гротески; Толстой оценил чрезвычайно один из них: за художественность! «Художеством», знаю я, более заинтересовались бы Брюсов и Маяковский, чем профессора; «художество» это преследовалось у нас в доме; кухаркам, извозчикам нес свое творчество неоцененный «мифолог»; извозчики в чайных передавали друг другу словечки отца; и известностью у приарбатских извозчиков очень гордился он.
Стиль каламбуров — Лесков, доведенный до бреда, до… декадентства; иными из них я воспользовался, как художник, ввернув их в «Симфонии» и в «Петербург».
Да, но стоило отцу открыть рот, как мать прерывала его:
— Вы опять за свое!
— Не любо, не слушай, а врать не мешай, — отзывался он, что-нибудь высказав: с очень довольным, хотя виноватым, стыдливым, слегка перепуганным даже лицом, себя сдерживая; не сдержавшись, сорвавши салфетку с себя (каламбуры слагалися им за обедом), он несся на кухню, где был он свободен от нашей цензуры; и, бухнув гротеском пред кухонного плитою, он с хохотом, полуприплясывая и полуподмаршовывая, мотал головой сверху вниз; и крахмалами кракал, к столу возвращался, чтобы подвергнуться действительному обстрелу глаз матери.
Эта потребность к чудовищностям — органический зуд, выраставший из вечного сопоставления оригинальных и новых мыслей о мире и жизни с «бытиком», мысли такие расплющивающим; из среды — куда вырваться? Он в ней, как узник, до смерти сидел пребеспомощно; сидел со страхом; и страх атрофировал в нем, революционере сознания, самую мысль об замене иною средою среды, окружавшей нас; ведь ее представители — сливки Москвы; не к извозчикам же бежать в чайные?
В том-то и дело, что, может, следовало бы бежать: пусть хоть в чайную!
Но до этого отец не дошел: воли к новому быту в нем не было; отдавался он «бытику» не от любви, а… из страха: проштрафиться; и — быть наказанным… Марией Ивановной Лясковской (?!), не говоря уже о нагоняях от мамы.
И он изживал в каламбурах стремленье к «не как полагается», следуя в быте канонам: с усилием невероятным; такого усилия быть, «как и все», я ни в ком не встречал; «всем» легко то давалось; а у отца это «быть, как и все» интегрировалось с непомерным трудом; с угловатостью, вызывающей хохот «у всех», он проделывал все бытовые каноны.
Иные из профессоров, как подметил я, будучи тоже свободными в мыслях от тех бытовых предрассудков, в которых мы жили, все силились, как и отец, уравнять себя среднею линией; и — выпирали: смешными казались; отец был смешнее их всех.
Кто выравнивал фланг бытовой?
В первую очередь выравнивала «профессорша»; много я типов видал; в многих бытах я жил; но такого ужасного, тусклого, неинтересного быта, какой водворила «профессорша» восьмидесятых годов, я, бежавший давно от профессорш, — могу смело сказать: не видывал я второго такого быта: купцы, офицеры, художники, революционеры, рабочие, крестьяне, попы жили красочней среднего профессора и средней профессорши; ни у кого «как у всех» не блюлось с такой твердостью; ни у кого отступление от «как у всех» не каралось с такой утонченной жестокостью (я на себе испытал ту жестокость). И думал я, что склероз, поражавший всех нас так ужасно, имел объяснение в том ложном мненье, что «мы» — соль земли; стало быть: «как у всех» означало для нас — как у Янжулов, у Стороженок, у Бобынина, у Млодзиевских; возьмите в отдельности каждого: имя в науке, заслуги, незаурядная личность; и, стало быть: сумма имен — сумма всех преимуществ над прочими.
![Василий Стенькин - Рассказы чекиста Лаврова [Главы из повести]](/uploads/posts/books/45116/45116.jpg)