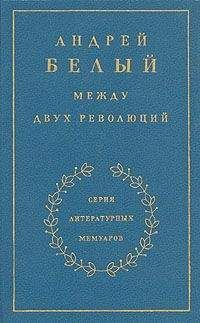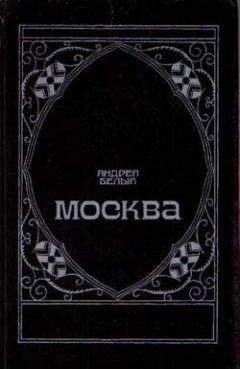Андрей Белый - Воспоминания о Штейнере
В этой усмешке себя изживала порою любовь к парадоксу, к чудачеству даже; лишь в этом разрезе можно понять, что порою он, не будучи ДЕКАДЕНТОМ, умел перемигиваться с декадентами и с символистами; ведь декаденты уже ощутили бездну — реально; БЕЗДНА их была выявлением пропасти, в которую ДЕКАДЕНТЫ и падали, о чем писал Брюсов:
Не поскользнусь ли я,
Чтоб стать звездой падучей
На небе бытия?[139]
Миг декадентского ВСПЫХА был мигом ПАДЕНИЯ их; миг вспыха в учении доктора, — миг приглашения к упражнению в летательном действии над БЕЗДНОЙ. Доктор сходился с ДЕКАДЕНТАМИ в утверждении, что БЕЗДНА, КУДА падают: есть; и — уже разверста; обыватели этой бездны не знали; так что в одной, узкой грани, — ДОКТОР и ДЕКАДЕНТЫ были как бы согласно противопоставлены людям прошлого века; отсюда и умение ДОКТОРА при случае подмигнуть декаденту — переживанием СТРАННЫМ, с усмешкою странной; в этом смысле воскликнул Эллис, которому я однажды передал обмен слов между мною и доктором; и воскликнул, заливаясь хохотом: "О, доктор, декадент шестого "ЦЕЙТРАУМА"[140]; попробуй ему сказать предельное в смысле ДИКОСТИ; он и глазом не сморгнув, с невозмутимым видом ответит ДИКОСТЬЮ, возведенной в энную степень, и способной свалить с ног быка".
Разумеется, — доктор не был ДЕКАДЕНТОМ; но суть и глубину декаденства, как болезни, он так понимал, как будто он сам прошел сквозь декаденство; я разумею декадентство в его жизненном нерве, а не ЛИТЕРАТУРНОЕ ТЕЧЕНИЕ, в котором на действительно ДЕКАДЕНТСКИХ переживаниях мимикрировали и — поза, снобизм, эстетизм. Ему ли не понимать декадентски — тютчевской "БЕЗДНЫ" ("И БЕЗДНА ЯВЛЕНА ТОСКОЙ С СВОИМИ СТРАХАМИ И МГЛАМИ"[141]), когда, можно сказать, он устанавливал самый отправной пункт ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ — от "БЕЗДНЫ": "Так нахожу я в нисхождении и мертвой ночи творчество нового начала" (из стихов его[142]).
Самой гносеологической основе нормального познания (высшей степени "НЕНОРМАЛЬНОГО" для мещанства) — по доктору предшествует процесс разоблачения предрассудков, — до выступления из — под них, ими извне лишь скованного, ХАОСА непредвзятого опыта; учение об этом опыте, взятое в рассудке, оставалось "УЧЕНИЕМ СРЕДИ УЧЕНИЙ"; но взятое в опыте, к которому он звал, оно становилось переживанием бездны и опытом бездны: остранняющим все восприятия; и доктор, где можно ОСТРАННЯЛ восприятия; а его УСМЕШКА порою была остранняющей УСМЕШКОЮ; нужно было быть символистом, чтобы видеть эту усмешку; не символисты тут именно видели — очень странное резонирование: игру софизмов.
На опыт "бездны", бывавший у его учеников, он реагировал странными вспышками странной смешливости; М. В.В.[143] однажды, поморщившись, мне говорила: "О, ЭТИ ШУТКИ ДОКТОРА! ОНИ ГРУБОВАТЫ…". Да, — но в грубоватость шуток был часто вложен тончайший шарж.
Вот почему он так любил в Моргенштерне не только АНТРОПОСОФСКИЕ СТИХИ, но и те, в которых ОСКАЛ БЕЗДНЫ И ПАДЕНИЕ ВВЕРХ ПЯТАМИ остраннены в шуточный гротеск; именно: он реагировал на все оттенки "ПЕСЕН ПОВЕШЕННОГО", — этой до футуризма возникшей в Моргенштерне футуристической книге: он — проповедовал эти "ПЕСНИ"; и очень любил, чтобы его эвритмистки исполняли шуточные моргенштерновские стихи; без "ПЕСЕН" не обходилось почти ни одно эвритмистическое представление эпохи 1914–1915 годов.
Оттого — то он реагировал и на мое "ЗАПУСТИЛ АНАНАСОМ", когда ему перевели стихотворение, фразой: "Но это же — правильно!"
9
Однажды, когда я сидел у него за чаем, он прервал меня: "Подождите, я вам что покажу…", встал из — за стола и со свойственной ему легкостью быстро вылетел из комнаты; послышалась дробь его шагов; он легко взбегал по лестнице — во второй этаж виллы "ХАНЗИ", где был его кабинет; скоро он спустился с большой книгой. "Смотрите, это — изображения к Кунрату[144]; видите — вон монстр; и вот; всюду — монстры. Многое говорилось мистиками и толкователями Кунрата о символической значении изображений; а между тем, — тут никакого символизма нет; и все глубокомыслие на дешифрование рисунков — тратилось впустую. Дело в том, что эти монстры — знакомые Кунрата; так Кунрат видел своих знакомых".
И доктор посмотрел на меня с оттенком смешливости, чуть не с подмигом; и — повторил с значительной грустью: "Да, — так он видел людей". И — помолчав: "И правильно видел: люди в астрале[145] порой выявляются, как таковые; Кунрат лишь перенес свои восприятия, их уплотнив на бумаге; и получились — чудища".
Помолчавши, добавил:
"Человек человеку — замкнутая вселенная; в человеке есть все, и то, что видел Кунрат".
Дело в том, что в это время я именно о многих людях, бывающих в А. О. имел восприятия, как о чудищах; мне все что — то РОЖИЛОСЬ в это время; думаю, что мысль показать мне рожи знакомых Кунрата пришла на ум доктору потому именно; в этом показывании чудовищ и явном подмиге о том, что человек человеку — "СТРАШНАЯ БЕЗДНА" сказалась та вызывающая вздрог, остранненная до нельзя смешливость доктора, которая уже не напоминала нисколько мной описанный его детский смех.
Все сказали бы, что это — эпатирование А ЛЯ Маяковский и ранний Брюсов эпохи шедевров; доктор был велик тем, что умел назидать и ДЕКАДЕНТОВ; являясь порой перед ними; и говоря с ними на их языке.
Для всех он был всем; с символистами, как символист, с декадентами, как декадент.
Некоторые СМЕШЛИВЫЕ мины доктора имели явно символический смысл; но СИМВОЛИЗМ смешка, как бы невольно вырвавшегося сквозь серьезность, открывался впоследствии; так один господин, жалуясь на холодность к нему жены и относя ее к необычайной духовной высоте этой последней, воскликнул, указывая на рядом с ним стоящую жену: "ХЕРР ДОКТОР, МОЯ ЖЕНА, КАК МОНБЛАН, так ДАЛЕКО!", на что доктор со странной усмешкой отвечал: "Но ведь Монблан не так уж далек". Монблан от Дорнаха не был далек; но — суть не в Монблане, а в том, что пресловутая ВЫСОТА была вовсе не так ВЫСОКА, что после обнаружилось; в пору же идеализации господин "X" не мог, конечно, подумать, что доктор шуткой отчитывает в нем абстрактность, вне отнесения к ЖЕНЕ каламбура (к такому отнесению он не был готов), шутка выглядела вполне непонятной.
Таким же неуместным и непонятным ответом, сквозящим шутливостью и высказанным не без озорства, были слова доктора мне, на почти вскрик мой о том, что я так скверен: "НО ВЫ ЖЕ НАПИСАЛИ ХОРОШУЮ КНИГУ"[146]. Сколько раз удивлялся неуместному, каламбурному ответу; и сколько раз в душе поднимался протест: "В духе ли духовного водителя отвечать с таким легкомыслием на вопросы моего сознания; какое отношение имеет хорошо или дурно написанная книга к КОНКРЕТНОЙ УТРАТЕ человеком ПУТИ"? Мне казалось, что я утратил мой путь; я уже вышел из возраста видеть смысл моего бытия в хорошо или дурно написанной книге. Слова доктора казались мне почти вызывающими, а странная смешливость тона казалась обидной.