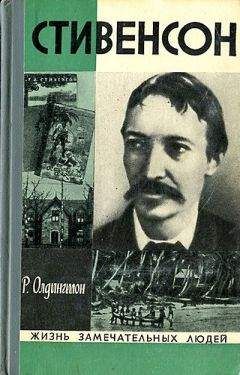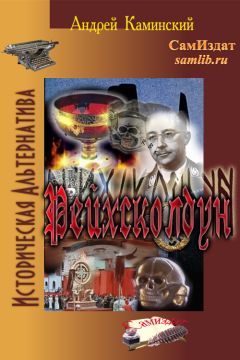Ричард Олдингтон - Стивенсон. Портрет бунтаря
После быстро промелькнувших блаженных дней в кругу людей, близких ему по духу, Роберту Луису стало еще труднее выносить сцены вроде той, что произошла между отцом и Бобом. Стивенсону сильно повезло, что у него был такой крепкий внутренний стержень, так как подобные сцены повторялись все чаще, хотя в отсутствие отца он отлично ладил с матерью (даже однажды ходил с ней в ресторан). Луис упоминает еще об «одной неприятности» всего через три недели после возвращения. Он говорит, что плохо себя чувствует, но не теряет бодрости и работает над очерком, и сообщает важную новость: генеральный прокурор предложил ему в присутствии Томаса Стивенсона отправиться в Англию для изучения английского права. Сейчас невозможно сказать, чем был вызван совет всемогущего служителя Фемиды — тем ли, что он считал Роберта Луиса Стивенсона не очень ценным приобретением для шотландского сословия адвокатов, или тем, что, зная немного о его положении, предложил поездку в Англию в качестве спасительного выхода. Во всяком случае, Роберт Луис ухватился за эту мысль и готовился в середине октября поехать в Лондон, как вдруг свалился «с больным горлом, лихорадкой, ревматизмом и признаками плеврита».
Хотя Луис пытается утверждать обратное, он, по-видимому, был еще не совсем здоров, когда все же уехал в Лондон, так как весил всего восемь стоунов шесть фунтов (пятьдесят три килограмма). Во всяком случае, Колвин и миссис Ситуэлл убедили его показаться известному врачу того времени, сэру Эндрю Кларку, о котором родители Роберта Луиса были, по необъяснимым причинам, такого же высокого мнения, как о генеральном прокуроре. Вполне возможно, что сэра Эндрю предупредили об обстановке в семье, усугублявшей болезнь Стивенсона; во всяком случае, он поставил диагноз — нервное истощение, заявив, что Луису грозит туберкулез (к сожалению, он не ошибся), — и потребовал, чтобы пациент получал усиленное питание и уехал за границу один, желательно на Французскую Ривьеру. Когда миссис Стивенсон попыталась настаивать на том, чтобы сопровождать сына, сэр Эндрю решительно воспротивился этому. «Кларк славный малый», — радостно писал Роберт Луис, собираясь в Ментону. Родители, добавлял он, не намерены отпускать его больше чем на шесть недель, но, «думается, я сумею их обмануть». А чтобы не придавать особого значения легенде о слепой любви матери, прочтите следующий отрывок из письма: «Сегодня мы с матерью немного повздорили насчет того, куда я пойду завтра. Она сказала: «Тебе не удастся всегда поступать по-своему, уверяю тебя». Я сказал: «Я этого и не жду, но неужели я не волен спать там, где мне хочется». Она тут же пошла на попятный и попросила в виде одолжения выполнить ее желание, на что я поспешил согласиться и обещал сделать, как ей хочется».
Роберт Луис мог позволить себе быть великодушным, потому что с помощью миссис Ситуэлл, Колвина и врача он получил наконец свободу, право на которую имел уже давным-давно. И даже теперь, если бы не категорический запрет сэра Эндрю, он отправился бы, как маленький мальчик, вместе с матерью на юг Англии, в Торки! Правда, родители неоднократно пытались снова его поработить, но с тех пор Луиса никогда не оставляла надежда повернуть жизнь по-своему и заняться искусством. В дополнение к вышеприведенному отрывку читаем:
«Завтра я еду в Дувр. В четверг вечером буду в Париже, в пятницу — в Сансе, в субботу — в Маконе, в воскресенье — в Авиньоне… Я с таким нетерпением жду встречи с солнцем, меня переполняет такое удовлетворение…фу! Какое слабое слово… такое животрепещущее счастье, что я с трудом удерживаю его в моем потрепанном непогодой теле».
Сослан на юг! Для многих жертв того чахоточного века это было всего лишь отсрочкой смертного приговора. Но хотя Стивенсону вполне реально угрожала чахотка, не приходится сомневаться в том, что он воспринял пугавший всех приговор если не как освобождение из тюрьмы, то, уж во всяком случае, как временную передышку. Трудные эдинбургские годы все еще не окончились, но Луис чаще и чаще будет иметь возможность спасаться бегством, пока не покинет нас навсегда. Крошечный мирок тех, кто все еще питает какое-то уважение к литературе, находится в неоплатном долгу перед сэром Эндрю Кларком.
5
Луис Стивенсон был превосходный путешественник; этим частично объясняется, почему его путевые заметки до сих пор привлекают, мало того — очаровывают куда большее число читателей, чем думают интеллектуалы. Он почти никогда не спешил, он готовился к поездке заранее, знакомясь с языком и историей страны, куда лежал его путь, у него был зоркий глаз на все новое и дар сходиться с людьми. Мы не обидим его, если добавим, что, судя по всему, он не знал, да и не хотел знать архитектуру и изобразительное искусство чужих стран, и, несмотря на «стилизованность» и некоторую претенциозность его манер и одежды, Луиса правильнее будет причислить к богеме, а не к эстетам. Мы не должны забывать, что он почти всегда прихварывал и часто был по-настоящему болен, а какое занятие, кроме физического труда, так утомительно, как осмотр достопримечательностей?! Он мог порой долго ходить пешком, но у него не было ни сил, ни желания тратить энергию на музеи и картинные галереи.
Нам может показаться, что все вышесказанное находится в противоречии с его очерком «О дорогах» — дебют Стивенсона в «настоящей» литературе, — напечатанным благодаря влиянию Колвина в ноябрьском номере «Портфолио» за 1873 год. Очерк этот, известный нам по позднейшему переизданию, кажется слишком многословным, в нем еще слабо чувствуется рука Стивенсона. Он сентенциозен, расплывчат по форме и, пожалуй, слишком обобщен по содержанию. Мы бы предпочти последовать за Стивенсоном по одной определенной дороге, а не слушать глубокомысленные рассуждения о дорогах вообще — этакие абстракции в духе Уитмена. Но ведь это юношеская работа, и сам автор жалуется, что, пересматривая ее впоследствии, был очень болен и ему казалось, будто он стоит на голове. Очерк этот заслуживает упоминания хотя бы потому, что хронологически открывает список его публикаций. Начиная с ноября 1873-го вплоть до смерти Стивенсона не было ни одного года, чтобы в печати — в журнале или отдельной книгой — не появилось какое-нибудь его новое произведение. Роберту Луису повезло в том смысле, что у него были доброжелательные и умные друзья, которые помогли ему пуститься в плавание, — ведь писателя среди многих других подводных камней подстерегает опасность неудачно начать, во-первых, и быть вынужденным писать после того, как он перестал нравиться публике, во-вторых. Стивенсон избежал и того и другого.
В одном из писем, рассказывающих о неторопливом продвижении от Дувра к Ментоне, Стивенсон сетует на отсутствие в них «стиля». О вкусах не спорят, но если под «стилем» Стивенсон понимал манеру, — чтобы не сказать манерность, — отличающую очерк «О дорогах», то читатели, свободные от ига литературных теорий, могут только радоваться, читая эти свежие и непосредственные письма, к счастью, не пострадавшие от «стиля».