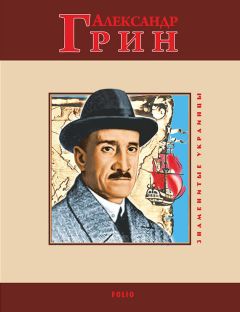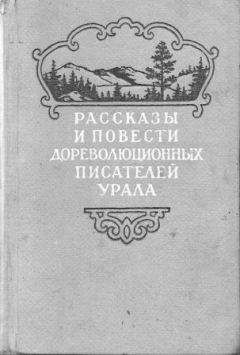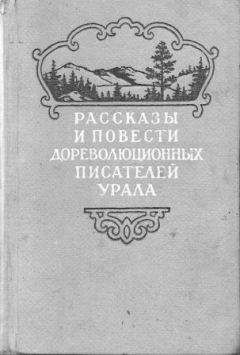Александр Андреев - Бегущий за «Алыми парусами». Биография Александра Грина
Просьба Горького была уважена, и Грин поселился на Мойке, у Полицейского (ныне Народного) моста, в Доме искусств.
Переехал Александр Степанович туда в мае 1920 года. Здесь я его и увидела. Застала я Александра Степановича здоровым и веселым.
Дом искусств был открыт в декабре 1919 года. Сначала он был задуман как филиал Московского Дворца искусств, но очень скоро вырос в самостоятельное учреждение. Во главе дома стоял М. Горький, средства же давал Народный комиссариат просвещения.
Потребность в создании Дома искусств была большая. Прежние писательские группировки вокруг журналов исчезли вместе с журналами, а собираться где-нибудь, чтобы обсудить свои профессиональные нужды, было необходимо. Кроме того, многие литераторы, музыканты, художники во время голода занялись всевозможными побочными заработками, отрываясь, таким образом, от своей профессии. Чтобы помочь им выбраться из тяжелого материального положения, при Доме искусств было открыто общежитие. В нем Грин и получил хорошую меблированную комнату. Там же можно было получать и обед.
В помещении Дома искусств устраивал свои вечера Союз поэтов и позднее молодое общество – Цех поэтов.
8 декабря 1920 года выступил Александр Степанович Грин со своей феерией – «Алые паруса». Публика приняла эту поэтическую повесть очень тепло. Александр Степанович рассказал мне, что вынашивал повесть пять лет; черновик ее лежал у него в походной сумке, когда он был на военной службе.
В. Абрамова. Воспоминания об Александре Грине. Л, 1972Чтобы попасть в комнату Грина, надо было пройти через большую кухню, потом спуститься по ступенькам в небольшой коридорчик. К нему примыкал перпендикулярно длинный темный коридор, слева вторая или третья дверь вела в комнату Александра Степановича. Видимо, в комнатах этих в прошлом жила прислуга.
Комната – небольшая, длинная, полутемная. Высокое узкое окно выходит в стену, на окне почти всегда спущена белая полотняная штора. В комнате и днем горит электричество.
Справа от двери большой платяной шкаф, почти пустой, так как у Александра Степановича не было лишней одежды. Слева большая железная печь-«буржуйка». На полу почти во всю комнату простой зелено-серый бархатный ковер. За шкафом вплотную такое же зелено-серое глубокое четырехугольное бархатное кресло. Перед ним маленький стол, покрытый салфеткой, узкой стороной к стене. За ним железная кровать, покрытая темно-серым шерстяным одеялом. Над нею большой портрет Веры Павловны (стоит в три четверти, заложив руки за спину) в широкой светло-серой багетной раме – увеличенная фотография. За кроватью стул.
Слева, за печкой, стул; за ним простой небольшой комод, покрытый какой-то блеклой цветной скатертью. На комоде – две фотографии Веры Павловны в детстве и юности, в кожаной и красного дерева рамках, фотография отца Александра Степановича, чарочка с оленем крошечная саксонская статуэтка – пастушок с барашком и собачка датского фарфора, длинноухий таксик, – подарок Веры Павловны, небольшое зеркало, пачка чистых гроссбухов для писанья, чернильница, карандаш и ручка с пером. В одном ящике комода пачка рукописей, в другом – смена белья, в остальных – пусто. За комодом – третий стул. Вот и все.
Н. Грин. Воспоминания об Александре Грине. Л, 1972Как сейчас: вижу его невзрачную, узкую и темноватую комнатку с единственным окном во двор. Слева от входа стояла обычная железная кровать с подстилкой из какого-то половичка или вытертого до неузнаваемости коврика, покрыта в качестве одеяла сильно изношенной шинелью. У окна ничем не покрытый кухонный стол, довольно обшарпанное кресло, у противоположной стены обычная для тех времен самодельная «буржуйка» – вот, кажется, и вся обстановка этой комнаты с голыми, холодными стенами.
Грин жил в полном смысле слова отшельником, нелюдимом и не так уж часто появлялся на общих сборищах. С утра садился он за стол, работал яростно, ожесточенно, а затем вскакивал, нервно ходил по комнате, чтобы согреться, растирал коченеющие пальцы и снова возвращался к рукописи. Мы часто слышали его шаги за стеной, и по их ритму можно было догадываться, как идет у него дело. Чаще всего ходил он медленно, затрудненно, а порою стремительно и даже весело, – но все же это случалось редко. Хождение прерывалось паузами долгого молчания. Грин писал. В такие дни он выходил из комнаты особенно угрюмым, погруженным в себя, нехотя отвечал на вопросы и резко обрывал всякую начатую с ним беседу.
Обитатели дома вообще считали его излишне замкнутым, необщительным и грубоватым. С ним мало кто хотел водиться. К тому же кое-кто и побаивался его острого, насмешливого взгляда и неприязненного ко всем отношения. Один из старых литераторов, сам человек нервный и желчный, заметил однажды: «Грин – пренеприятнейший субъект. Заговоришь с ним и ждешь, что вот-вот нарвешься на какую-нибудь дерзость». В этом была крупица истины. Грин мог быть порою и резким, и грубоватым. Жил он бедно, но с какой-то подчеркнутой, вызывающей гордостью носил он свой до предела потертый пиджачок и всем своим видом показывал полнейшее презрение к житейским невзгодам.
Внешность у него была в то время мало располагающая к себе. Худощавый, подсохший от недоедания, всегда мрачно молчаливый, он казался человеком совсем иного мира. Многие, знавшие его только внешне, отказывали ему даже в интеллигентности, говорили, что он похож на маркера из трактира, на подрядчика дровяного склада и т. д.
Но таким Грин был для тех, кто знал его очень мало. Он словно сам заботился о том, чтобы окружить себя атмосферой неприязни, отгородиться нарочитой грубостью от всякого непрошеного вмешательства в его внутренний мир. Годы бесприютной скитальческой жизни и порою полуголодного существования даже в относительно благополучные для литераторской среды времена приучили его к настороженности и осторожности. И мало кто из знавших его в то время подозревал, сколько настоящего, светлого лиризма было в его душе, сколько подлинной любви к человеку, веры в светлые качества его существа и великие творческие возможности. Недаром именно им, общепризнанным «мизантропом», «грубоватым циником», были созданы удивительные сказки и легенды о людях крепкой воли, страстной мечты, чистого душевного благородства.
Жизнь Грина была тяжелой, жестокой, порою почти беспросветной, но ничто не могло сломить в этом необычайном человеке прирожденного оптимизма и неустанного мужества. Очевидно, за эту веру в людей, за пылкий, пусть несколько наивный романтизм и любил Горький его рассказы, казалось бы, совсем далекие от реальной обстановки. И везде, где было нужно, защищал Грина от упреков в «нездешности», ласково-иронически называя его «полезным сказочником» и «нужным фантазером»