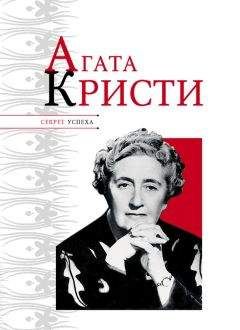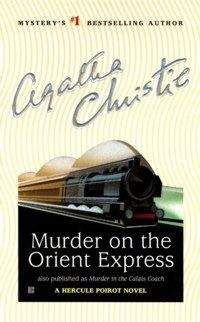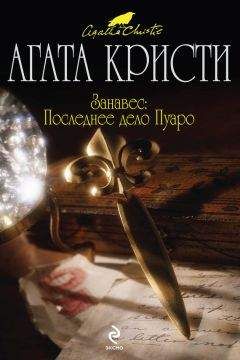Ромен Роллан - Жизнь Микеланджело
Микеланджело скромно отклоняет эти похвалы и выражает свое отвращение к болтливым и праздным людям — вельможам или папам, — которые считают себя вправе навязывать свое общество художнику, когда для дополнения своей задачи ему уже не хватает жизни.
Затем беседа переходит на возвышеннейшие вопросы искусства, о которых маркиза говорит о религиозной серьезностью. Для нее, как и для Микеланджело, произведение искусства есть исповедание веры.
«— Хорошая живопись, — говорит Микеланджело, — приближается к богу и соединяется с ним… Она — только копия с его совершенств, тень его кисти, его музыки, его мелодии… Поэтому художнику отнюдь не достаточно быть великим и искусным мастером. Скорее я полагаю, что жизнь его должна протекать, насколько возможно, в чистоте и святости, чтобы дух святой руководил его мыслями…»[258]
Так проходил день в этих беседах, поистине священных, полных торжественной ясности, в обрамлении церкви Сан — Сильвестро, если только друзья не предпочитали продолжать свой разговор в саду, описанном Франсишко да Оланда, «близ фонтана, в тени лавровых кустов, сидя на каменной скамье, прислоненной к стене, сплошь обвитой плюшем», откуда открывался вид на Рим, расстилавшийся у их ног[259].
Прекрасные! собеседования эти, к несчастью, продолжались недолго1. Их внезапно оборвал религиозный кризис, пережитый маркизой Пескара, В 1541 году она покинула Рим, чтобы удалиться в монастырь, сначала в Орвьето, затем в Витербо.
«Но она часто покидала Витербо и приезжала в Рим с единственной целью повидать Микеланджело. Он был увлечен божественным ее разумом, и она платила ему тем же. Он получил от нее и сохранил множество писем, полных целомудренной и нежнейшей любви, таких, на какие была способна эта благородная душа»[260].
«По ее желанию, — добавляет Кондиви, — он исполнил статую обнаженного Христа, который, будучи снят с креста, упал бы, как недвижный труп, к ногам пречистой своей матери, если бы двое ангелов не поддержали его за руки. Она сидит у подножия креста, лицо ее плачет и страдает, и, распростерши свои руки, она подымает длани к небу. На крестном древе можно прочесть слова «Non vi si pensa quanito sangue costa»[261]. Из любви к Виттории Микеланджело нарисовал еще распятого Иисуса Христа не мертвым, как обычно его изображают, а живым, с лицом, обращенным к отцу и восклицающим: «Эли, Эли!» Тело не опускается безвольно, оно корчится в последних судорогах агонии».
Быть может, Витторией также были внушены два великолепных рисунка к «Воскресению», находящиеся в Лувре и в Британском музее. В луврском рисунке геркулесообразный Христос с яростью отбросил тяжелую гробовую плиту; у него одна нога еще в могиле, и, подняв голову, подняв руки, он устремляется к небу в страстном порыве, напоминающем одного из луврских «Пленников». Вернуться к богу! Покинуть этот мир, этих людей, на которых он даже не смотрит, в бессмысленном ужасе ползающих у его ног! Вырваться из мерзости этой жизни, наконец‑то, наконец‑то!.. В рисунке Британского музея больше ясности. Христос вышел из гробницы: он парит, его сильное тело плывет по воздуху, который его ласкает; скрестив руки, запрокинув назад голову, закрыв глаза в экстазе, он Подымается в сияньи, как солнечный луч.
Таким образом, Виттория открыла для искусства Микеланджело область веры. Она сделала больше: подстрекнула его поэтический гений, пробудившийся под влиянием любви к Кавальери[262]. Она не только просветила его отно сительно религиозных откровений, о которых он имел смутное предчувствие, но, как доказал нам Тоде, подала ему пример прославления их в стихах. В самом начале их дружбы появились первые «Духовные сонеты» Виттории[263]. Она посылала их своему другу по мере написания[264].
Он почерпал в них утешительную сладость, новую жизнь. Прекрасный ответный сонет, обращенный к ней, свидетельствует о его нежной благодарности:
Блаженный дух, ты с пламенным стараньем
В жизнь сердце шлешь, что в смерти застарело,
Меня в стране, где все светло и цело,
Встречаешь не в пример другим созданьям.
Как прежде взору, так теперь мечтаньям
Ты предстаешь, и горестное тело
Надеждой вновь питается несмело,
Что наравне с другим живет желаньем.
Такие речи обращались ныне
Ко мне среди такого попеченья,
Что все — тебе в писаниях напрасных.
Стыду я послужил бы и гордыне,
Когда б пустые дал изображенья
Взамен живых созданий и прекрасных[265].
Летом 1544 года Вдттория вернулась в Рим в монастырь св. Анны, где и оставалась до самой смерти. Микеланджело посещал ее там. Она с любовью о нем думала, стараясь вносить какую‑нибудь отраду и удобство в его существование, делать ему незаметным образом какие‑нибудь маленькие подарки. Ню хмурый старик, «не хотевший ни от кого принимать подарков»[266], — даже от тех, кого он больше всего любил, — тказывал ей в этом удовольствии.
Она умерла. Он видел, как она умирала, и произнес эти трогательные слова, показывающие, какую целомудренную сдержанность сохранила их великая любовь:
«Ничто не приводит меня в большее отчаяние,!как мысль, что я не поцеловал ее лицо в лоб, как поцеловал ей руку»[267].
«Смерть эта, — цишет Кондиви, — надолго его ошеломила: казалось, он лишился рассудка».
«Она хотела мне величайшего добра, — ‘Печально говорил впоследствии Микеланджело, — и я со своей стороны хотел ей того же. (Mi voleva grandissimo bene, e io non meno a lei.) Смерть похитила у меня великого друга».
Он написал на эту смерть два сонета. Один из них, всецело пропитанный платоническим духом, отличается тяжелой изысканностью, бредовым идеализмом; он похож на ночное небо, исчерченное молниями. Микеланджело сравнивает Виттюрию с молотом божественного ваятеля, извлекающего из материи возвышенные мысли:
Коль грубый молот мой из твердой глыбы
Исторг различные изображенья,
Они лишь от творца ведут движенья
И жить без чуждой воли не могли бы.
Лишь в небесах божествен молот, ибо
Себе и всем другим он украшенье.
Не может молот быть без повторенья,
Лишь в нем соединились все изгибы.
И, так как тем сильней удара сила,
Чем выше вознесен над наковальней, —
Мой в небеса вознесся надо мною,
Чтоб до конца то дело доходило,
При помощи твоей первоначальной,
Что одиноко шло стезей земною[268].
Другой сонет, более нежный, провозвещает победу любви над смертью: