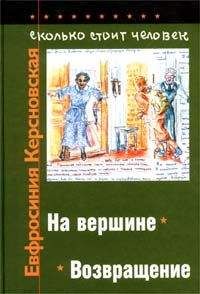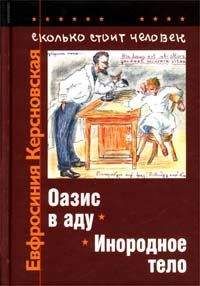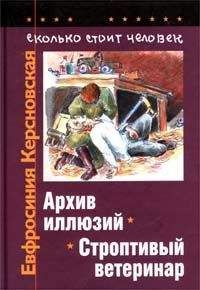Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь двенадцатая: Возвращение
В отделе кадров я уселась в ожидании, пока двое или трое шахтеров решат свои вопросы. Прошло несколько минут. Кто-то приоткрыл за моей спиной дверь, и начальник отдела кадров обратилась ко мне:
— Евфросиния Антоновна, зайдите в парткабинет. Вас там ждут.
И сердце мне не подсказало, что я стою на пороге еще одного «университета», долженствующего пополнить мое «высшее образование», которое я, в доверчивой наивности, считала законченным.
Лейтенант
На пороге парткабинета я остановилась. Никого из шахтеров здесь не оказалось. Лишь какой-то высокий, худощавый полувоенный стоял у стола. На фоне окна он выделялся в виде силуэта. Я не могла себе представить, зачем я ему понадобилась.
— Вы не ошиблись, — сказал он, видя мое замешательство. — Да, это я вас вызвал.
И жестом он мне указал на стул, продолжая стоять.
— Вы давно в шахте? Как работа? Как относятся к вам начальники, товарищи? Нет ли у вас каких-либо жалоб, претензий?
Я скорее удивилась, чем насторожилась. Однако отвечала так, как это делала всегда: с максимальной доброй волей и минимальной осторожностью, так как мне органически претят всякого рода расчет и «прощупывание». Может, это идиосинкразия к малодушию, но я брезгаю надевать личину притворства, сознательно отбрасываю все, чем можно было бы заслониться от ожидаемого удара.
Затем он сел, придвинул к себе довольно-таки объемистую папку и заглянул в свои бумажки.
— В органы государственной безопасности поступили тревожные сигналы о некоторых ваших словах и поступках, и я хочу, чтобы вы со всей откровенностью ответили на все мои вопросы. Вы помните, как-то у вас не совсем хорошо получилось с лотерейными билетами?
— Я за них заплатила наличными, разорвала их на четыре части и вернула товарищу Поликарпову. Да, это было.
— Ну вот, видите! Как это можно назвать? Государственная лотерея — и вдруг вы рвете ее знаки!
— Я их не «вдруг» порвала. Этому предшествовал довольно продолжительный диспут. Билеты мне не предложили взять, а обязали. Я возразила, говоря, что не беру билеты не оттого, что мне жаль денег, и в доказательство того деньги ему дала, а билеты взять отказалась, мотивируя тем, что я принципиально против всякого рода азарта: картежной игры, рулетки и прочих порождений итальянского темперамента. Мечтать о том, чтобы дать пять рублей и получить 35 тысяч, — безнравственно и глупо. Получается, тот, кто выиграл, — подлец, а тот, кто проиграл, — дурак. А я — рабочий. Мой труд оплачивается, и притом хорошо. С моего заработка удерживается налог, и немалый. Таким образом, и я и государство выполняем обоюдно все наши обязательства.
— Так вы говорите, что билеты порвали оттого, что вам их навязывали?
— Безусловно. В нынешнем году насильно их никому не всучивали, и я, чтобы никто не думал, что я скуплюсь, взяла билеты, заплатила за них и, даже не взглянув на номера, отдала их забойщику Пасечнику, дочери которого в этот день исполнялось восемь лет: «На, бери — на счастье девочки!»
— Однако это еще не все. Вы помните… Вы ведь художник, не правда ли?
Я собралась возразить, но он остановил меня жестом и продолжал:
— Вы нарисовали боевой листок. Там изображен ваш участок. Много разбросанного инструмента…
Я силилась вспомнить, какая еще ересь вкралась в один из тех «Крокодилов», на которые я тратила свое свободное время, а иногда и последние листы столь дефицитного ватмана?
— Вы там изобразили… гм… такой нехороший символ. Вообще, как-то так получилось…
Вспомнила! Я изобразила, как все шахтеры нашего участка мечутся по всем забоям в поисках хоть одной исправной шуровки, а горный мастер Матлах объясняет Крокодилу, который явился в качестве общественного инспектора, что у нас так принято.
— Я пририсовала Матлаху свастику и подписала карандашом «Геббельс». Это его кличка.
И я рассказала, почему это сделала.
Матлах — это отвратительный тип: трусливый в минуты опасности, лживый и изворотливый; с начальством — подлиза и низкопоклонник; наглый, когда мог себе это позволить. Матлаху всячески мирволил Пищик. Его смена вышла на одно из первых мест исключительно благодаря моей отпалке. Когда надо, я оставалась на час или на два часа по окончании смены, не говоря уж о том, что, не щадя своего здоровья, лезла в газ, не дожидаясь проветривания забоя, и добивалась самого высокого КПД при минимальном расходе взрывчатки, стараясь не повредить крепление. (Это не похвальба. Просто я любила свою работу и душу в нее вкладывала.) Матлах не мог оценить честный труд. Он видел в этом мою слабость и окончательно обнаглел: откладывал отпалку одного, а то и двух забоев на время после окончания смены и требовал, чтобы я работала эти лишних два часа, причем эти требования сопровождал угрозами и дошел до того, что стал разрешать себе похабную брань. Я его осадила и предложила извиниться. Он осыпал меня отборной бранью. Смена уже окончилась, все ушли. Если б не хамство Матлаха, я поработала бы лишних два часа. А так — я ему сказала: «Мое рабочее время истекло. Пусть отпалку производит следующая смена, которая приступит с восьми часов». Уйти на-гора я не могла, так как забой был заряжен. Но и Матлах не имел права уйти. Впрочем, он-то ушел и, воспользовавшись тем, что я осталась в заряженном забое, сочинил такую лживую историю, что сам Геббельс — мастер пропаганды — позеленел бы от зависти! В довершение всего он принудил татарина Фатахова подписаться в качестве «свидетеля». Заварился такой сыр-бор, что всполошилось все высшее начальство комбината. Разумеется, у лжи — короткие ноги, и все это было распутано. Вот тогда-то я в нашей раскомандировке на боевом листке пририсовала Матлаху свастику и надпись «Геббельс».
Конев что-то листал в своей папке. Я — ждала.
— У вас есть знакомые, с которыми вы переписываетесь? Например, на Украине, в Сумах? Есть? Ну так вот. Вы написали такое возмутительное письмо, что они вознегодовали, прислали это письмо органам ГБ. Люди сознательные…
— Вы хотите сказать, что у старушки, которой я написала письмо, оно было выкрадено? Или при перлюстрации задержано? Старушка болеет, чувствует себя несчастной — у нее отобрали пенсию. В свое время она[7] за мной ухаживала, и, быть может, благодаря ее уходу, у меня не ампутировали ногу. Я пишу ей бодрые, юмористические письма, которые ей поднимают жизненный тонус: подбодрить больного — значит помочь ему побороть болезнь.
— Но отдаете ли вы себе отчет, что умышленно извращаете смысл знаменитой, единственной в своем роде речи, которая является краеугольным камнем целой эпохи и открывает новую эру — эру великой семилетки?!