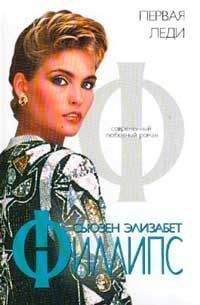Владимир Пуришкевич - Убийство Распутина
— Потому, — ответил он, — что шуба целиком в печь не влезла, само собою разумеется, а ваша жена сочла невозможным заняться распарыванием и разрезыванием этой шубы на части и сжиганием ея по кускам.
— У нее даже на этой почве вышло столкновение с Дмитрием Павловичем, и шубу и боты так и пришлось привезти обратно. Мы сожгли его верхнюю поддевку, перчатки и, не помню, еще что-то.
— Шубу и калоши придется выбросить с трупом в воду, — добавил он.
— А вы протелефонировали, господа, — спросил я его вновь, — в Вилла Родэ, согласно уговору?
— Да, конечно, — ответил он, — это сделано.
Мы замолкли и в таком состоянии продолжали наш путь.
Автомобиль по городу шел сравнительно медленно. Час был очень поздний, и великий князь, очевидно, опасался быстрою ездою возбудить какие-либо подозрения полиции.
Окна автомобиля были спущены. Свежий морозный воздух бодряще действовал на меня. Я был совершенно покоен, несмотря на все пережитое, но мысли одна за другою, все вертевшиеся вокруг Распутина и его прошлого и тех усилий, которые употреблялись даже членами императорской фамилии для избавления царя от этого гада, мысли отчетливые и ясные и картины этой борьбы против Распутина вихрем проносились в моей голове.
Я вспомнил мое посещение великого князя Николая Михайловича в начале ноября, тотчас же по возвращении моем с фронта — посещение, опять-таки связанное с именем Распутина. Я вспомнил, как редактор «Историч. Вестника» Глинский, позвонив мне по телефону, передал приглашение великого князя Николая Михайловича приехать к нему в любой день и час, когда мне это будет удобно; вспомнил, как я боролся с самим собою: ехать или не ехать, ибо великий князь Николай Михайлович, в своих исторических трудах выставлявший в крайне неприглядном виде своих царственных дедов и прадедов и маравший их, мне казался крайне несимпатичным.
Но я решился, назначил день моего визита и поехал.
Меня встретил в кабинете дряхлеющий лев, в генерал-адъютантских погонах, говоривший почему-то с восточным акцентом и с первых же слов остановившийся на ужасном положении, в которое поставлена Россия и династия Романовых благодаря исключительному влиянию на царя, через Александру Федоровну, Распутина.
Я поразился откровенности великого князя, с которым познакомился лишь сейчас, в момент, когда к нему вошел, но, видимо, у него в душе накипело слишком много, и он хотел проверить себя и свое настроение по настроению других русских людей, иных взглядов даже и направлений, чем его собственное (я узнал потом от Юсупова, который у него завтракал в этот день, что через два часа после моего визита у него был с визитом Бурцев).
Он говорил сам почти все время, не останавливаясь, изредка вопросительно взглядывая на меня, отвечавшего ему либо одобрительным наклонением головы, либо коротким «да», «верно», «конечно», «так».
— Вы знаете, В. М., — говорил великий князь, — что почти вся наша семья Романовых подала государю записку о Распутине, прося взять бразды правления над Россией в свои руки и прекратить вмешательство в государственные дела императрицы Александры Федоровны, во всем инспирируемой этим хлыстом; из записки, как и следовало ожидать, конечно, ничего не вышло. Я ее даже не подписал, ибо видел ее бесцельность и понял, что записка специальная только по этому вопросу не даст результатов для дела, а приведет к плачевным результатам для подписавших.
Я сделал иначе, получив серьезное поручение от государя и выполнив его, я написал доклад по существу
порученного мне дела и в этом докладе ярко и выпукло, но как бы между прочим, указал на весь ужас современных общественных настроений России, с которыми хорошо знаком, — настроений, являющихся следствием распутинского над Россией «радения» и вмешательства во все дела чужой народу и России царской жены.
Написав доклад, — продолжал великий князь, — я, в бытность государя в Петрограде, попросил его назначить мне день для личного и устного ему его изложения, добавив царю: «Боюсь, однако, что после моего доклада ты прикажешь арестовать меня и выслать подальше от столицы с казаками».
«Разве доклад так страшен у тебя, — ответил мне государь, назначая день, — ну что делать, прослушаем, надеюсь, все обойдется мирно». И я ему доложил, а в результате— ко мне немилость, опала и полное охлаждение. Хотите, — закончив рассказ, обратился великий князь, — я вам прочту этот доклад.
Я выразил желание его прослушать, и Николай Михайлович прочел мне небольшую, но очень сильно и резко написанную записку, в коей обращалось внимание государя на то, что в случае дальнейшего вмешательства Александры Федоровны и Распутина в государственные дела династии грозит гибель, а Российской империи — катастрофа.
Я вспомнил, что, когда великий князь кончил чтение записки, я несколько минут, под впечатлением прослушанного, сидел, как загипнотизированный, и пришел в себя только после того, как великий князь, предлагая мне сигару, добавил:
— Вы знаете, этот доклад я представил императрице Марии Федоровне, находящейся в Киеве, через князя Шервашидзе, и хотите знать о нем мнение матери-царицы? Вот оно, — и, порывшись в бумагах, великий князь дал прочесть мне телеграмму. В ней стояло только три слова французскими буквами и подпись: «Браво, браво, браво! Мария». — Но осторожный Шервашидзе, — добавил великий князь, — по-видимому, боялся оставить среди бумаг старой царицы столь компрометирующую бумагу, как моя записка, и вот при этом письме ко мне (Николай Михайлович протянул мне письмо Шервашидзе), выражающем опасение, что я могу остаться без нужного для меня документа, возвратил мне мою записку, вызвавшую столь яркое сочувствие и одобрение мне со стороны царицы-матери…
Вот что припомнилось мне сейчас в карете, когда в ногах моих лежал бездыханный труп «старца», которого мы увозили к месту его вечного упокоения.
Я выглянул в окошко. Мы выехали уже за город, о чем говорили окружающие дома и бесконечные заборы. Освещение вокруг было крайне скудное. Дорога стала скверной, попадались ухабы, на которых лежавшее у наших ног тело подпрыгивало, несмотря на сидевшего на нем солдата, и я чувствовал, как по мне пробегала нервная дрожь всякий раз, когда на ухабе моего колена касался мягкий и еще не успевший, несмотря на мороз, окончательно застыть отвратительный для меня труп.
Наконец, вдали показался мост, с которого мы должны были сбросить в прорубь тело Распутина.
Дмитрий Павлович замедлил ход, въехал на мост с левой стороны и остановился у перил.
Яркие фонари у автомобиля на одно мгновение ударили снопом своего света в сторожевую будку, находившуюся на той стороне моста справа, но вслед за сим великий князь потушил огонь, и даль очутилась во мраке. Мотор машины продолжал стучать на месте.