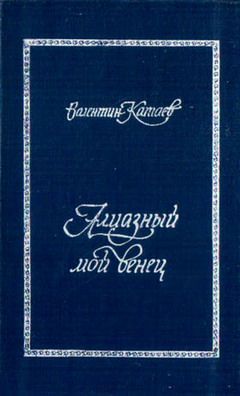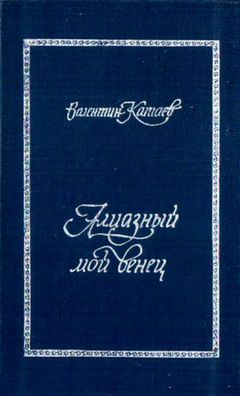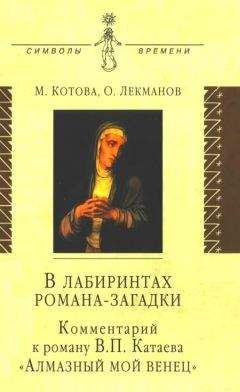Валентин Катаев - Алмазный мой венец
Но мы, делая вид, что не слышим, уже вступали в своих потертых пальто в игорный зал, где вокруг громадного овального стола сидели игроки в рулетку и молодой человек с зеркальным пробором и лицом сукина сына, так называемый крупье, раскладывал лопаткой с длинной ручкой ставки и запускал белый шарик в карусель крутящегося рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским голосом провозглашал:
– Гэспэда, делайте вашу игру. Мерси. Ставок больше нет.
Вокруг стола сидели и стояли игроки, страшные существа с еще более страшными названиями – «частники», «нэпманы», или даже «совбуры», советские буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного, незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со скрытым страхом.
Они были одеты в новенькие выглаженные двубортные шевиотовые костюмы, короткие утюгообразные брючки, из-под которых блестели узконосые боксовые полуботинки «от Зеленкина» из солодовниковского пассажа.
Перстни блистали на их коротких пальцах. Пробраться к столу было нелегко. Но нам с синеглазым все-таки удалось протереться в своих зимних пальто к самому столу, а я, заметив освободившееся место, умудрился даже сесть на стул, что могло посчитаться большой удачей.
Впрочем, нэпман, занимавший доселе этот стул и отлучившийся лишь на минутку в уборную за малой нуждой, вернулся, застегиваясь, увидел меня на своем стуле и сказал:
– Пардон. Это мое стуло. Вас здесь не сидело. – И, отстранив меня рукой, занял свое законное место.
Прежде чем поставить нашу единственную трешку, мы долго совещались.
– Как вы думаете, на что будем ставить? На черное или на красное? – озабоченно спросил синеглазый.
(Конечно, об игре на номера, о трансверсале и о прочих комбинациях мы и не помышляли. Нас устраивал самый скромный выигрыш: получить за три рубля шесть и скорее бежать к Елисееву за покупками – таков был наш план, основанный на том традиционном предположении, что первая ставка всегда выигрывает.)
– Ставим на красное, – решительно сказал я. Синеглазый долго размышлял, а потом ответил:
– На красное нельзя.
– Почему?
– Потому что красное может не выиграть, – сказал он, пророчески глядя вдаль.
– Ну тогда на черное, – предложил я, подумав.
– На черное? – с сомнением сказал синеглазый и задумчиво вздохнул. – Нет, дорогой… – Он назвал мое уменьшительное имя. – На черное нельзя.
– Но почему?
– Потому что черное может не выиграть.
В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить судьбу и вызывая иронические взгляды и даже оскорбительные замечания богатых нэпманов.
Мы молча сносили наше унижение и не торопились. Мы знали, что дома нас ждут друзья и нам невозможно вернуться с пустыми руками.
Конечно, мы могли бы в одну минуту проиграть свой трояк. Но ведь без риска не было шанса на выигрыш. Мы медлили еще и потому, что нас подстерегало зловещее зеро, то есть ноль, когда все ставки проигрывали. Естественно, что именно ради этого зловещего зеро Помгол – Комиссия помощи голодающим Поволжья – и содержал свои рулетки.
Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна.
Мы ставили на черное или на красное, на чет или на нечет и почему-то выигрывали. Быть может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии синеглазый написал свой знаменитый роман.
Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же бежали по вьюжной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер – непременно чеддер! – который особенно любил синеглазый и умел выбирать, вынюхивая его своим лисьим носом, ну и, конечно, бутылки две настоящего заграничного портвейна.
Представьте себе, с какой надеждой ожидала нас в доме «Эльпит-рабкоммуна» в комнате синеглазого вся наша гудковская компания, а также и синеглазка, в которую я уже был смертельно влюблен и прелесть которой все никак не мог объяснить ключику, сказавшему мне как-то в ответ на мои любовные излияния:
– Ты напрасно стараешься. Я тебе могу в одной строчке нарисовать портрет синеглазки: девушка в бежевой шелковой блузке с гладкими пуговичками на рукавах. Понимаешь? Пуговички белые, без дырочек, гладкие, пришивающиеся снизу. Очень важно, что они именно гладкие. Это типично для почти всех хороших, милых, порядочных девушек. Заметь себе это и не делай излишних иллюзий.
С тех пор у меня навсегда сохранился четкий и точный портрет девушки с гладкими пуговичками на манжетах шелковой блузки, что лишний раз вызывало во мне ревнивую зависть к моему другу, умевшему увидеть то главное, на что не обращал внимания никто другой.
Ах, моя незабвенная синеглазка!
Как быстро пролетели для нас рождественские каникулы. Мы уже не могли прожить друг без друга ни часа. Мы ходили по холодным, пустынным залам музеев западной живописи (Морозова и Щукина), два провинциала, внезапно очарованные французскими импрессионистами, доселе нам неизвестными. Мы сидели в тесных дореволюционных киношках, прижавшись друг к другу, и я поражался, до чего синеглазка похожа на Мери Пикфорд, что, впрочем, не соответствовало истине – разве только реснички… И пучок пыльного света в котором, как в ткацком станке, передвигались черные и белые нити, озаряя нимбом ее распушившиеся, обычно гладко причесанные волосы.
Мы смотрели в Театре оперетты «Ярмарку невест», и ария «Я женщину встретил такую, по ком я тоскую» уже отзывалась в моем сердце предчувствием тоски, и, гуляя в антракте по фойе рядом с синеглазкой, я не мог оторвать взгляда от раковинки ее ушка, розовевшего среди русых волос, а вокруг нас ходили зрители того времени – нэпманы, среди которых так чужеродно выглядели френчи и сапоги красных офицеров и их бинокли, но не маленькие театральные, а полевые «цейсы» в кожаных футлярах, висевшие на груди, иногда рядом с орденом Боевого Красного Знамени на алой шелковой розетке.
…и мы слушали «Гугенотов» в оперном театре Зимина, и я чувствовал прикосновение к рукаву ее белой шелковой блузки, до озноба холодной снаружи и по-девичьи горячей внутри, и я не мог себе представить, что скоро она должна уехать в Киев, где, как она уже мне призналась, у нее есть жених, которого она до приезда в Москву любила, а теперь разлюбила и на всю жизнь любит только меня, и в ожидании следующего свидания я как одержимый писал ночью в Мыльниковом переулке:
«Голова к голове и к плечу плечо. Неужели карточный дом? От волос и глаз вокруг горячо, но ладони ласкают льдом. У картинного замка, конечно, корь: бредят окна, коробит пульс, и над пультами красных кулисных зорь заблудился в смычках Рауль. Заблудилась в небрежной прическе бровь, и запутался такт в виске. Королева, перчатка, Рауль, любовь – все повисло на волоске. А над темным партером повис балкон и барьер, навалясь, повис, – но не треснут, не рухнут столбы колонн на игрушечный замок вниз. И висят… и не рушатся… Бредит пульс… скрипка скрипке доносит весть: «Мне одной будет скучно без вас, Рауль». «До свиданья: я буду в шесть»…»