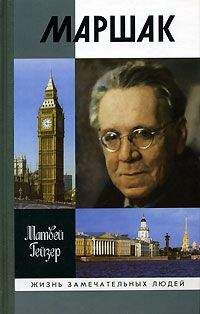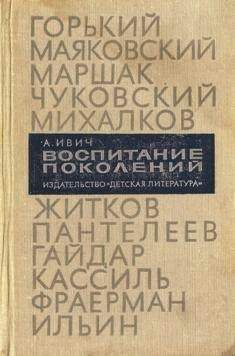Илья Маршак - Александр Порфирьевич Бородин
Ему не могли не вспоминаться слова Зинина о том, что подлинная медицина должна быть приложением естественных наук к лечению болезней. Значит, надо было и тут начинать сначала, с естественных наук — с физики, химии, физиологии.
Такие мысли и сомнения не давали покоя и другому молодому врачу — Ивану Михайловичу Сеченову, который только что окончил Московский университет. Он вспоминал потом в своих «Автобиографических записках»:
«Болезни, по их загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса, так как ключа к пониманию их смысла не было, а вкус вдумываться в эти загадки, с целью различенья в них существенного от побочного — эту главную приманку истинных любителей медицины, — развиться еще не мог… Всеми этими качествами обладал в высшей степени С. П. Боткин, который уже был профессором. Для него здоровых людей не существовало, и всякий приближавшийся к нему человек интересовал его едва ли не прежде всего как больной. Он присматривался к походке и движениям лица, прислушивался, я думаю, даже к разговору. Тонкая диагностика была его страстью, и в приобретении способов к ней он упражнялся столько же, как артисты вроде Ант. Рубинштейна упражняются в своем искусстве перед концертами. Раз, в начале своей профессорской карьеры, он брал меня оценщиком его умения различать звуки молоточка по плессиметру. Становясь по середине большой комнаты с зажмуренными глазами, он велел обертывать себя вокруг продольной оси несколько раз, чтобы не знать положения, в котором остановился, и затем, стуча молотком по плессиметру, узнавал, обращен ли плессиметр к сплошной стене, стене с окнами, к открытой двери в другую комнату и даже к печке с открытой заслонкой».
Сергей Петрович Боткин был не только большим ученым, но и виртуозом в искусстве врачевания. Бородин был тоже человеком искусства, но другого. И другая наука влекла его к себе.
С первых же дней работы в госпитале ему должно было стать ясно, что он здесь не на месте. Можно представить себе, как тоскливо и неуютно ему было во время ночных дежурств. Хотя стрелки часов в дежурной комнате двигались с положенной им скоростью, казалось, что они еле ползут. Разве так шло время, когда он сидел за фортепьяно или работал в лаборатории? Тогда оно не шло, а летело. Ночь, бывало, уже близилась к рассвету, а спать совсем не хотелось. А здесь, на дежурстве в госпитале, приходилось неустанно бороться с дремотой.
Вот он покидает опостылевший ему кожаный диванчик в дежурной комнате и по пустынным коридорам обходит госпиталь. Огромные палаты, тускло освещенные ночником, кажутся еще больше. Здесь и ночью нет тишины, нет покоя. Над этими ровными рядами кроватей словно реют темные призраки кошмаров, которые заставляют больных стонать и вскрикивать во сне, сбрасывать с себя одеяло. Где-нибудь в углу раздается слабый голос: «Пить!» Этот зов повторяется не раз, пока, наконец, сонная сиделка не поднимается со своего места и не подает больному кружку с тепловатой, пахнущей жестью водой.
Мрачный возвращается молодой врач в дежурную комнату. И снова начинается убивание времени, прерывающийся зевками разговор со случайным товарищем по дежурству. Госпиталь военный, и, кроме врача, каждую ночь дежурит также и офицер.
Один из случайных товарищей по дежурству в госпитале стал впоследствии близким другом Бородина. Незначительная встреча запомнилась на всю жизнь, потому что за ней последовали другие, все более значительные.
«Первая встреча моя с Модестом Петровичем, — рассказывал потом Бородин, — была в 1856 году (кажется, осенью, в сентябре или октябре). Я был свежеиспеченным военным медиком и состоял ординатором при 2-м сухопутном госпитале; Модест Петрович был офицером Преображенского полка, только что вылупившимся из яйца. Первая встреча наша была в госпитале, в дежурной комнате. Я был дежурным врачом, он — дежурным офицером. Комната была общая; скучно было на дежурстве обоим. Экспансивны мы были оба; понятно, что мы разговорились и очень скоро сошлись.
Вечером того же дня мы были оба приглашены на вечер к главному доктору госпиталя — Попову, у которого имелась взрослая дочь, ради которой часто давались вечера, на которые обязательно приглашались дежурные врачи и офицеры. Это была любезность главного доктора.
Мусоргский был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком: мундирчик с иголочки, в обтяжку; ножки вывороченные, волоса приглажены, припомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские. Манеры изящные, аристократические; разговор такой же, немножко сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами, несколько вычурными. Некоторый оттенок фатоватости, но очень умеренный. Вежливость и благовоспитанность — необычайные. Дамы ухаживали за ним. Он сидел за фортепьянами и, вскидывая кокетливо ручками, играл весьма сладко, грациозно и пр. отрывки из Travatore, Traviata [7] и т. д., и кругом его жужжали хором: «charmant», «délicieux» [8] и пр.».
Как обманчиво бывает иногда первое впечатление о человеке! Судьба свела двух юношей, которым предстояло со временем рука об руку бороться за великое дело создания новой русской музыки. Но они не сразу узнали друг друга. Для Бородина Мусоргский был только гвардейским «офицериком», для Мусоргского Бородин был только молодым военным врачом. И все-таки их что-то потянуло друг к другу, у них нашлись темы для интересного разговора, хотя настоящая дружба была еще впереди.
Но не все ночи на дежурстве проходили так безмятежно.
Как-то раз в госпиталь привезли совсем не таких больных, как обычно. Это были не офицеры и не солдаты, а крепостные крестьяне. Их было шесть человек.
В страшном виде их привезли. Кожа на окровавленных спинах болталась лоскутами. У двоих виднелись даже кости. Мы не знаем, какая причина заболевания была проставлена в «скорбном листе». Но истинная причина была в том, что этих шесть человек прогнали сквозь строй.
За что же так беспощадно расправились с этими людьми?
Их помещик много лет жестоко обращался с ними и с другими крестьянами. Они долго терпели, так же как терпели их отцы и деды. За малейшую провинность крепостных пороли на конюшне. А если кто осмеливался перечить, тем «брили лбы» — отдавали в солдаты.
И вот пришло время, когда крестьянам невмоготу стало больше терпеть. Нашлось шесть смельчаков, которые решили проучить своего мучителя. Они заманили его на конюшню и поступили с ним так, как он много раз приказывал поступать с ними: высекли его кнутом. Высечь помещика, да еще полковника, — это значило совершить неслыханное преступление. Это было даже больше, чем преступление, это был бунт!